
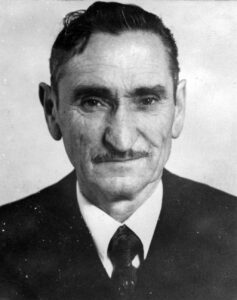
35-я отдельная стрелковая бригада в боях за Москву
Ни шагу назад – за нами Москва!
Башков Константин Кириллович (1981 г.)
«На голодный желудок легче переносить ранение в живот»
1 декабря 1941 года на Московском стратегическом направлении, а особенно на его операционном Клинском направлении, обстановка для наших войск сложилась серьёзная. Противнику удалось здесь, преодолевая сопротивление наших войск, захватить Белый Раст, Красную Поляну, Горки и деревню Катюшки, на 2,5 километра юго-западнее Киово, находящуюся всего в 25-ти километрах от Москвы.
К Москве были прикованы взоры и сердца всех, кому дорога была победа над фашистской чумой, растоптавшей независимость большинства народов Западной Европы. В эти дни решалась судьба не только нашего государства, но и всего свободолюбивого человечества. Вся страна встала на защиту нашей столицы. Сюда были переброшены воинские части из Сибири, Дальнего Востока и из Средней Азии. В эти суровые дни прибыли и мы, курсанты Ташкентского пехотного училища им. В. И. Ленина, с гордостью называвшие себя курсанты-ленинцы, в составе 35-ой отдельной стрелковой бригады. В состав бригады входили также коммунисты, комсомольцы, передовая молодёжь Узбекистана, добровольно вступившая в её ряды, чтобы принять активное участие в защите Москвы.
27 ноября мы прибыли на станцию Химки-Ховрино. Здесь мы полностью вооружились, теплее оделись, так как мороз доходил до 30-ти градусов, и до 30 ноября вошли в состав 20-й армии. 1-го декабря нам был объявлен первый боевой приказ занять оборону в районе Луговая – Лобня. (правильно: Хлебниково Ерёмино, за иск[ючением] Луговая – прим. ДМЛ). Командный пункт командира бригады был развёрнут в с. Ерёмино.
Идём по улицам. Дома кажутся грязными, окна заклеены, кругом противотанковые рвы, надолбы, ежи, рогатки, в небе заградительные аэростаты и множество чёрных облачков от разрывов снарядов зенитной артиллерии. Много людей, в основном женщины и старики, идут с лопатами, кирками, ломами копать окопы.
Выходим из селения. По бокам дороги на больших щитах много плакатов, призывающих к подвигу. На одном из них изображена женщина-мать, держащая в правой руке текст Присяги. Крупными буквами слова: «Родина-мать зовёт!»
Мыслями уносимся каждый в свои родные края, вспоминая своих матерей, которые также желали нам, чтобы мы быстрее разгромили врага и с победой вернулись домой. Но многим из наших друзей не суждено будет вернуться, и они погибнут уже здесь, недалеко от Москвы.

Мы идём в пос. Хлебниково, который в 21-ом километре от Москвы. Здесь, как говорят разведчики, побывали уже немецкие мотоциклисты. 2-ой батальон нашей бригады вышел на рубеж Лобня – Киово и, потеснив подразделения 2-ой Московской стрелковой дивизии, занял оборону. Вместе с 2-ым батальоном прибыл наш командир полковник П.К. Будыхин и лично руководил организацией противотанковой обороны.
Учитывая важность этого направления, сюда прибыл и начальник штаба 20-й армии полковник Л.М. Сандалов. В послевоенных воспоминаниях он писал: «Полковник Будыхин лично организовал противотанковую оборону на Рогачёвском шоссе перед полотном Савёловской железной дороги. Для поддержки бригады мы пообещали ему выслать на станцию Лобня бронепоезд». («Битва за Москву», стр.246)

Нашему 1-му стрелковому батальону с выходом на Рогачёвское шоссе, а потом на Дмитровское было приказано занять оборону на рубеже Луговая – Киово – выс. 184,5. Поддерживала наш батальон 1-ая батарея 76-ти миллиметровых пушек, которой командовал ст. лейтенант М.М. Катунский, грамотный артиллерист, хороший командир и товарищ, ему было тогда 23 года.
3-му стрелковому батальону нашей бригады было приказано занять оборону в районе Хлебниково, находясь во втором эшелоне.
Наш 1-ый батальон с получением такого приказа входит в лес. Несколько метров идём по лесу. Хорошо в подмосковном лесу зимой! А как должно быть хорошо здесь летом, сколько должно быть здесь осенью грибов! Так думали в то время мы, приближаясь всё ближе к передовой, где шли ожесточенные бои наших передовых частей. На выходе из леса перед нами открывается простор. За ним снова небольшой пролесок, а там, на высотках, два села: слева — Лобня, справа – Киово. Спускаемся в лощину, и на нас внезапно из-за пролеска налетает до десятка вражеских самолётов. Не успели наши командиры дать команду «воздух», как мы все разбежались по полю, видя впереди спасительное место – лес. Самолёты разрядили из своих пулемётов по длинной очереди, вздыбились вверх и, разворачиваясь, сделали второй заход, чтобы по-настоящему нас обстрелять, и, спускаясь почти до земли, снова начали обстреливать наши бегущие цепи. А лес как на зло продолжал оставаться далеко, так как сугробы были до пояса и двигаться быстро было тяжело. Этому адскому концерту, казалось, не было конца, самолёты обстреливали нас, делая круг за кругом. Становилось больно в ушах от постоянного шума и беспрерывной стрельбы, нервы напрягались, как струны, ноги не хотели больше вылезать из глубокого снега, хотелось завалиться в сугроб. На какое-то мгновение мы пришли в отчаяние, видя, как рядом падают наши друзья, сражённые вражеской очередью, но разум одержал верх, из последних сил мы двинулись вперёд.
Наконец достигли леса, и хоть зимний лес редкий, он показался нам добрым спасителем, несмотря на то что немецкие самолёты продолжали ещё долго обстреливать нас и в лесу.
Сделав своё коварное дело, наконец вражеские самолёты улетели, и наши командиры, построив свои подразделения, получили возможность проверить личный состав и уточнить потери. Выяснилось, что в нашей роте недостаёт 5-ти человек. Командир взвода мл. лейтенант В.А. Храпов по распоряжению командира роты Г. Гудымы направляет наше 1-ое отделение для обследования местности в полосе движения нашей роты. Мы идём в цепи, в 30-40 метрах друг от друга, разгребая каждую кучку снег. Убедившись, что там никого нет, идём дальше. Вижу: впереди в снегу лежит боец, возле него и за ним – след крови. Видно, раненый бежал, а потом был сражён последующей очередью из самолёта. Бывало так часто на войне: одному чересчур много, а другому – ничего. Поворачиваю его: всё лицо залито кровью, тело безжизненное, пытаюсь поднять руку, она, как плеть, падает на снег. Достаю из кармана его красноармейскую книжку: боец из 2-го взвода Махомиджанов. Беру его винтовку, иду дальше. Слышен голос: «Спасите…». Подбегаю ближе. Корчится от сильной боли после ранения в живот боец, рядом лежит ручной пулемёт Дегтярёва. Раненый, увидев меня, просит его пристрелить, не может выдержать сильной боли в животе, всё время хватает снег и ест его прямо ртом, отчего всё лицо в снегу. Мы с напарником поднимаем его и ведём к санитарной повозке, что стоит на дороге.
Идём дальше, вижу: на боку лежит с открытыми глазами Игорь Малышев, мой самый лучший друг, однокурсник по училищу, с которым 22 июня этого года мы поступали из Пржевальска в Ташкентское пехотное училище им. В. И. Ленина. Мы с ним в училище, как говорят, делили хлеб и соль пополам, но не успели поесть из одного фронтового котелка, он погиб, сражённый очередью из пулемёта фашистского самолёта, так и не успев дойти до передовой и убить хотя бы одного фашиста. При виде убитых и раненых наших бойцов у нас невольно на глаза накатывались слёзы. Жалко было наших боевых друзей, которые были в то время первыми погибшими, потом уже привыкли ко всем невзгодам и потерям своих близких друзей, стали мужественнее, и, конечно, слёзы на глаза уже не накатывались.
Выполнив задание командира взвода, мы вернулись в свой батальон, который разворачивался во второй траншее оборонительных позиций в районе Киово. Во второй траншее наш батальон развернулся временно, так как нам предстояло заменить 3-й батальон 2-го стрелкового полка 2-ой Московской дивизии, находящейся в первой траншее. Но по данным разведки, противник готовился к большому наступлению на Хлебниково, и, чтобы укрепить это направление, мы встали здесь в оборону, чтобы в удобный момент контратаковать противника. 2-й батальон нашей бригады, потеснив влево 2-й батальон Московской дивизии, занял первую траншею. А наш 3-й батальон находился в Хлебниково в боевой готовности контратаковать противника в этом районе. (на 1 декабря 35 осбр занимала рубеж Хлебниково-Ерёмино, а затем согласно приказа 20А заменяла постепенно (не единовременно) подразделения 64 осбр (фронт обороны которой был сверх длинный для бригады в то время — от Чёрной (Трудовая) до Хлебниково), которая меняла своё расположение севернее от Москвы – в район Катуар-Троице-Сельцо-Чёрное. На рубеже Луговая смена частей 64 осбр произошла в ночь с 4 на 5 декабря 1941 года – прим. ДМЛ).
Прибыв в свою роту, доложили о выполнении задания, командир роты поблагодарил нас и похвалил за то, что я взял с собой ручной пулемёт убитого бойца, не оставив на санитарной повозке, хотя старшина батальона добивался, чтобы я оставил его там, чтобы отдать его в другую роту. Наш взвод располагался в домах на восточной окраине с. Киово. Наблюдатели и дежурные пулемётчики располагались на огневых позициях на высоте, в траншеях и на чердаках домов. Увидев меня с пулемётом, командир нашего взвода Храпов тоже обрадовался и сказал мне, чтобы я лез на чердак дома. Не успел я взобраться на чердак, как за мной следом поднялся и командир взвода. Он показал мне, где проходит передний край противника, с какого направления ожидаются вражеские танки, где в первой траншее расположен наш 2-й батальон. Впереди нашего взвода располагалась 4-я рота 2-го батальона.
Не успел командир взвода до конца поставить мне задачу, как видим с ним: из района деревни Горки множество снежных вихрей, а с приближением их ближе стало отчётливо видно, что это немецкие танки, стремительно продвигающиеся вперёд в направлении нашего 2-го батальона, а значит, и в нашем направлении. За танками шла пехота. По этому было видно, что основной удар немцы решили нанести в этом направлении. Спустившись в лощину, они построились клином, острие которого было направлено вдоль шоссе. У развилки Рогачёвского шоссе стояло орудие 13 батареи 864-го зенитного артполка. Орудием командовал заместитель политрука комсомолец В. М. Громышев. Они первыми открыли огонь по танкам и пехоте противника.
Открыли огонь и противотанковые пушки нашей 35-ой отдельной стрелковой бригады. Наши сорокопятки стояли на открытых позициях, чуть-чуть замаскированные с боков и сверху еловыми ветками, запорошенные снегом, непосредственно в боевых порядках батальонов и тоже почти одновременно с зенитчиками открыли огонь по немецким танкам. Танки противника открыли сильную ответную стрельбу, завязалась огневая дуэль. По пехоте противника открыли огонь пулемёты нашего 2-го батальона. Особенно метко и хорошо стреляли по фашистам два неразлучных пулемётчика Алексей Петрик и Алексей Михайленко, уложившие в этом бою десятки немцев. Метким огнём артиллеристы и пулемётчики заставили немцев залечь. Остановился и задымил головной фашистский танк, за ним другой, остальные танки начали разворачивать и отходить. Слышим: слева от нас громкое солдатское «ура»! Это соседний батальон 2-ой Московской дивизии, оказавшийся в более-менее выгодных условиях, контратаковал немцев. Мы в свою очередь поддерживали его огнём со своих позиций. Противник, потеряв на поле боя два танка и много сотен пехоты, был отброшен в село Горки.
Начальник штаба 20-й армии в оперативной сводке №2 от 1 декабря 1941 года докладывал в штаб Западного фронта: «35 ОСБр, закончив выгрузку, сосредотачивается в районе ст. Луговая (ошибка – прим. ДМЛ – в приказах и сводках для Луговой присутствует сокращение «иск» — исключая – прим. ДМЛ), Хлебниково, Ерёмино для занятия обороны передним краем Луговая (!), Киово, Хлебниково». (Фонд 373, оп.6631, дело 3, лист 2) «С 1 декабря у города и станции Лобня, у деревни Киово против частей 2-й танковой дивизии противника вели ожесточённые бои части 2-й Московской стрелковой дивизии, 31-й стрелковой дивизии, 35-й отдельной стрелковой бригады 20-й армии и 13-й батареи 864-го зенитно-артиллерийского полка 1-го корпуса ПВО». (Военно-исторический справочник «Битва под Москвой», стр.17) — ни слова, что ошибочно, о 64 осбр — прим. Авт.
1-го декабря противник, уверенный в том, что сопротивление советских войск сломлено, рассчитывал беспрепятственно захватить в районе Хлебниково переправы через канал Москва-Волга и затем стремительно, броском ворваться в Москву. Однако расчёты фашистов не оправдались. На рубеже Савёловской железной дороги в районе Лобни передовые части противника были остановлены. Попытка гитлеровцев прорваться к Москве по Рогачёвскому шоссе была окончательно сорвана частями 20-й армии, в которую входила и 35-я отдельная стрелковая бригада.
Если до 1-го декабря на фронте до 10 километров от станции Луговая до Лобни занимала оборону фактически одна 2-я Московская стрелковая дивизия, состоявшая из коммунистов московского ополчения, то теперь на этом участке было сосредоточено две дивизии и две бригады: 2-я Московская дивизия, перешедшая из группы Лизюкова Московской зоны обороны, 331-я стрелковая дивизия, 28-я стрелковая бригада и 35-я отдельная стрелковая бригада. Понятно, что противнику через такой заслон нелегко было прорваться к Хлебниково. Но он, учитывая важность этого направления, самое близкое расстояние до Москвы, подтягивал всё новые и свежие силы, стремясь во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, и предпринимал одну атаку за другой.
1-му батальону нашей бригады было приказано 2-го декабря заменить 3-й батальон 2-го полка 2-й Московской дивизии, располагавшейся правее Киово. Вслед был получен второй приказ, по которому наш батальон сменяет весь 2-й полк на рубеже Луговая – Киово, выс. 184,5, при поддержке 1-ой батареи 76-ти миллиметровых пушек.
2-й стрелковый батальон занимает оборону иск. Киово, Хлебниково, иск. Ерёмино. Поддерживает 2-я батарея 76-ти миллиметровых пушек, до выхода в бой 3-го батальона поддерживает также 3-я батарея 76-ти миллиметровых пушек.
3-му батальону было приказано вместе с 6-й батареей 76-ти миллиметровых пушек, миномётной ротой миномётного батальона подготовить для обороны район высоты 201, 1, МТС, иск. Новосельцево. Быть готовым к контратаке противника из этого района. (Фонд 1830, оп.1, дело 1, л.2, арх. МО СССР.)
С утра 2-го декабря повалил густой снег, который дал нам возможность, маскируясь от наблюдения противника, спокойно позавтракать. В этот день немного потеплело. Наш батальон после завтрака вышел через лес на Дмитровское шоссе и направился в направлении Луговой.
Командир нашей роты ст. лейтенант Гудыма стоит на обочине дороги, пропуская роту, подбадривает: «Ну как, курсанты, постоим за Москву, как наши предки под Бородино?!» «Постоим, Москву не дадим фашистам», — вразнобой отвечают ему бойцы. Между прочим, командиры, обращаясь к бойцам, по привычке называли их курсантами, и даже тогда, позже, когда курсантов оставалось совсем мало, а большинство из пополнения были обыкновенными бойцами. Этим самым подчёркивали, что наша бригада была сформирована из добровольцев, курсантов-ленинцев Ташкентского военного училища, богатого боевыми традициями.
Подходим к Луговой. Все взводы нашей роты сворачивают влево, а наш взвод со взводом разведки нашего батальона некоторое время продолжает движение прямо. Впереди видим строения, которые переоборудованы для огневых позиций. Рядом с ними – траншеи неполного профиля, в которых располагаются пожилые бойцы Московской дивизии. Мы заменяем одну из сильно потрёпанных в боях рот. Эти бойцы с боями отходили из Солнечногорска и вот теперь упорно держат здесь оборону. Усталые, небритые, по годам не молодые, вылезают они из своих скромных окопов и радуются, что на смену им пришли молодые, загорелые, хорошо вооружённые подразделения. А когда узнали, что мы из Ташкента, курсанты-ленинцы, ещё больше удивились и говорили: «Как мы рады, что пришли вы к нам на помощь. Мы знали, что Москва дорога каждому нашему советскому человеку и что защищать её будут все народы нашей страны». Уходя, давали нам наказ, чтобы мы стойко держали рубежи и не пропустили фашистов к Москве, чтобы не посрамили наших предков-Кутузовцев. Мы давали им слово, что наша бригада, сформированная в основном из курсантов-ленинцев, в которой есть представители почти всех национальностей нашей страны, коммунисты и комсомольцы, не пропустит фашистов не только к Москве, но и за Савёловскую железную дорогу. Здесь фашисты найдут себе от нас могилу. Мы тепло, по-братски простились с московскими коммунистами, которые вышли с поля боя на временный отдых.
Командиры, разведчики, а особенно артиллеристы дотошно допытывались у сменяемых нами командиров сведений о переднем крае противника, его огневых точках, как часто и с какого направления противник беспокоит своими атаками. Командиры по возможности старались объяснить. А наши военачальники наносили обстановку на свои карты, записывали в блокноты. Но, к большому сожалению, сведения о противнике были скудными, т. к. до конца уяснить обстановку не успели.
Станция Луговая находилась у фашистов. С башни института кормов всё время обстреливал позиции немецкий пулемёт. Наша артиллерия пыталась его уничтожить. На какое-то время он прекращал стрелять, а потом снова начинал. По всей вероятности, после его уничтожения немцы устанавливали на его место новый пулемёт и другой расчёт. Башню разбить не удавалось: крепко она была сделана нашими мастерами в мирное время. По данным армейской разведки, на нашем направлении действовали подразделения 2-й немецкой танковой дивизии.
Только ушли от нас москвичи, как слева, в стороне Киова, послышалась большая стрельба и шум танковых моторов. Мы быстро приняли боевой порядок. Мины, как горох, посыпались на нашу передовую. Артиллерийские снаряды с визгом пролетали над нашими головами в глубь нашей обороны, нанося удары по нашим артиллерийским и миномётным позициям. Мы с непривычки прятались в мелких окопчиках, низко кланялись каждому снаряду, а они с сатанинским воем пролетали над нами, разрываясь сзади с оглушительным рёвом, поднимая столб снега, дыма и земли.
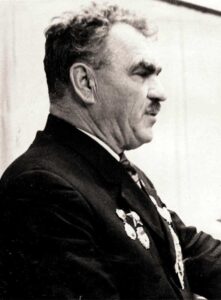
Наша артиллерия открыла ответный огонь, но по сравнению с немецким, наш огонь показался нам слабее.
Недалеко от нас, на передовой, наблюдательный пункт командира нашей роты ст. лейтенанта Гудымы и командира батареи лейтенанта Катунского. Отчётливо слышим его команды, сперва с ругательством, а потом: «Молодцы, ребятки, беглым — огонь!»Сзади слышим крики людей и ржанье лошадей, это к нам на передовую приехали наши сорокопятчики. Они быстро разворачиваются, распрягают лошадей и уводят их в укрытие. Но вот разрывается очередная вражеская мина, и осколком убивает одну из лошадей. Она корчится в смертельной судороге, один из коноводов добивает её из винтовки. Жаль нам бедную лошадь. Но тут командир нашего взвода даёт нам команду, чтобы мы помогли артиллеристам закатить пушку в сарай, где они успели в стене пробить большую дыру. Вторую сорокопятку размещаем левее, разбросав копну сена. Наверное, на нашем направлении ожидаются немецкие танки. Так оно и есть. Перед нашим фронтом обороны слышим шум танков чуть левее станции. Шум приближается, и вот теперь видим: на нас, поднимая вихрь снега, идут три танка, а со станции, развернувшись цепью, идёт пехота.
Противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью у нас всегда готовы. Трое наших истребителей танков: В. Захаров, М. Туленов и И. Халимжанов — выползают вперёд в глубокий окопчик, в котором по ночам находится наш дозор. Доброе дело сделал сегодня снегопад: глубоко зарываясь в сугроб, ползут наши истребители. Но длинная очередь из фашистского танка по нашим истребителям – и, не доползая до окопчика метров 10, остаётся лежать без движения Михаил Туленов, остальные благополучно добираются до окопа. Танки всё ближе и ближе к нам, а за ними – пехота. В этом бою нам предстоит первая непосредственная встреча с танками!
В училище мы хорошо готовились к борьбе с танками. Окапываясь под нашими танками и забрасывая их гранатами, чувствовали себя уверенными. А здесь впереди идёт вражеский танк, извергая из жерл своих пушек огонь, и беспрерывно стреляет из пулемётов. Конечно, нам было в то время жутко и страшно, но уверенность в победе, ответственность перед Родиной брали верх, и мы становились во весь рост, чтобы преградить путь фашистам к Москве.

Крепко сжимая в руках свои винтовки, пулемёты и ружья ПТР, мы ждём приказа своих командиров, чтобы открыть огонь по врагу. Наши истребители Захаров и Халимжанов забрасывают немецкие танки гранатами и бутылками, но немецкие танки продолжают идти на нас. Видно, не попали они в уязвимое место. Один танк, облитый из бутылки горючим, обгорает, но всё равно, ведя обстрел следует вперёд. Открыли огонь наши противотанковые ружья по команде командира взвода мл. лейтенанта Василия Николаевича Сайганова, ведут огонь по танкам и сорокопятки. Наконец, и мы, стрелки и пулемётчики, дождались своей очереди.
За станковым пулемётом мой друг – курсант Пётр Хлопуша. Любил он свой «Максим», как девушку. Пулемёт у него всегда был ухожен и накрыт белой простынёй, которую он нашёл где-то здесь в домах. Помощник Петра Хлопуши не успевал перезаряжать ленты. Фашисты падали, и казалось, что сражены они были именно очередями пулемёта Хлопуши.
Задымил и загорелся один танк. Во время того, как разворачивался второй, открылся люк и из него выскочил танкист с тросом, успев прицепить его к горевшему танку, но не успел залезть обратно, как сражённый нашей пулей сполз по танку и безжизненно упал в снег. Но другой танкист дёрнул танк с места и поволок за собой горевшую машину.
От нашего эффективного стрелково-пулемётного огня немецкая пехота залегла. Тут мы услышали громкое «Ура!», это наши автоматчики вместе с командиров взвода В.С. Цайгановым пошли в контратаку через наши боевые порядки. Мы присоединились к ним и с общим мощным «Ура!» ворвались на позиции врага на станцию Луговая, освободив её полностью. Немцы, оставив много солдат убитыми, бросив трофеи, отступили.
2-ой стрелковый батальон нашей бригады в это самое время удерживал большой натиск врага, который всеми силами через направление Лобня – Киово хотел прорваться к Хлебниково. На этот раз из деревни Нестериха немцы предприняли атаку, направив более 20 танков, включая и те, которые шли на нас в районе станции Луговая. В направлении Лобня – Киово гитлеровцы стремились в первую очередь уничтожить снова вставшую на их пути зенитную батарею. Враг обнаружил на позиции артиллеристов и на позиции нашего 2-го батальона сильный артиллерийский огонь. Яростный обстрел вели и наступающие автоматчики противника. Мужественно дрались на пути немцев зенитчики. В ходе боя погиб весь артиллерийский расчёт под командованием В.М. Громышева. На пути оставался только расчёт Г.А. Шадунца, который и завершил бой, подбив шесть немецких танков.
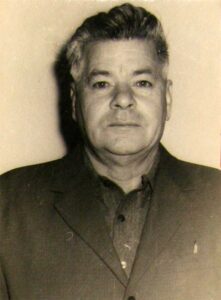
Озлобленные неудачей и попавшие в сложное положение, немцы обрушили яростный огонь всех оставшихся танков, артиллерии и миномётов по артиллерийским позициям и обороняющим подразделениям 4-го батальона 35-ой ОСБр.

Яростно, изо всех сил дрались с врагом наши стрелки, пулемётчики и артиллеристы. В этих боях отличились бойцы 2-го батальона Александр Гусев, Михаил Андреев, Александр Попов, автоматчик Н.А. Зуев и многие другие наши бойцы и командиры.
«Бои подразделений 2-ой Московской дивизии, 35-ой отдельной стрелковой бригады и зенитчиков 13-ой батареи в районе Лобни были поддержаны огнём двух бронепоездов, переброшенных из района Яхромы. Слово, данное 1-го декабря комбригу Будыхину, начальник штаба 20-й армии полковник Сандалов сдержал». (Военно-исторический справочник «Битва под Москвой», стр. 18-19.)
«2-го декабря попытка гитлеровцев 2-й танковой и 106-й пехотной дивизии прорваться к Москве была окончательно сорвана, и фашисты вынуждены были и на этом участке встать в оборону». (Там же.)
Укрепляя свои позиции, мы готовились к решительным наступательным боям. Они были не за горами, так как по всему было видно, что наше командование готовится к этому. Повсюду в лесу можно было видеть много наших замаскированных танков, пушек большого калибра, всевозможной техники, а главное, — наших любимиц – гвардейских миномётов «Катюш».
Настала ночь на 3 декабря. Она была особенно холодной (см. Хронику). Обувь наша промокла, а так как днём была небольшая оттепель, просушить её было негде, и ноги у каждого из нас сделались, как култышки. В эту ночь у многих бойцов было обморожение конечностей. Правда, в нашем взводе с этим всё обошлось благополучно благодаря солдатской находчивости. Около станции Луговая было много мякины, которую натаскали немцы. Мы обложили ей ноги и руки, а, прея, она горела сама и грела нас.
Эта ночь прошла относительно спокойно, если не считать сильные обстрелы вражескими пулемётами и миномётами наших позиций на Луговой.
В эту ночь я вместе с другом, тоже курсантом-ленинцем Валентином Чичвинцевым, находился в секрете, метрах в 70-100 от наших боевых порядков. Командир наш одел нас тепло, и мы чувствовали себя в своём окопчике более-менее уютно на первых порах, конечно, а к середине ночи стали коченеть. И тоже нашли мякины, зарыли в неё ноги, и стало тепло, даже полезли в голову разные мысли, уносящие далеко в детство, хотя нам самим было всего по 18 лет.
Рано утром 3 декабря, ещё затемно, нас сменили в секрете бойцы нашего 2-го взвода, так как наши подразделения ночью несколько потеснили вправо другие подразделения. В расположение 2-го батальона зашли подразделения 331-ой стрелковой дивизии, и мы вскорости продвинулись ещё правее, к железнодорожной будке. Фашисты всю ночь освещали наш передний край ракетами и обстреливали из пулемётов. До рассвета мы успеваем позавтракать. Противник пристально наблюдает за малейшими нашими движениями, чуть что – обстреливает, поэтому все вопросы решаем ночью, таков закон фронта.
Наши бойцы ведут пристальное наблюдение за противником, о каждой движущейся и вновь появляющейся огневой точке докладывают своим командирам и по команде ведут огонь по целям противника из артиллерийского и пулемётно-стрелкового оружия.
По всему фронту действует приказ Генерала-армии Г. К. Жукова: «Не давать покоя врагу ни днём ни ночью, бить врага в любое время, любыми путями, разными, какие найдёте нужнее, способами!» И старались мы бить врага любыми путями. Уже здесь, в Луговой, стало развиваться снайперское движение, в котором особенно славились бойцы Кусков и Подгорный. Разведчики совершали глубокие заходы в тыл врага, создавали там панику, брали «языка», штабные документы. Особенно славились разведчики 1-го батальона под командованием Михаила Сарайкина, разведчики Александр Сидоренко (ныне живёт в Ташкенте), Василий Терещенко, Виталий Гладков и другие.
Артиллеристы и миномётчики своим массированным огнём точно поражали вражеские скопления людей и огневые точки. К ним относились артиллеристы и миномётчики В. Калмыков, В. Махров, Ф. Мосин, В. Зайцев, миномётчики Н. Мысенко, В. Кияченко, В. Хуснивадзе и другие, которые делали всё, чтобы земля горела под ногами фашистов.
3-го декабря последовал приказ штаба 20-й армии: «35-ой особой стрелковой бригаде иметь один батальон за правым флангом 64-ой морской стрелковой бригады в районе деревни Чёрная, остальные части сосредоточить в районе Хлебниково в готовности развить на него наши успех 331-ой стрелковой дивизии в направлении Носово, Букарево…» (Фонд 373, оп. 6631, дело 1, лист 8.)
Настало утро 3 декабря. Вышло ясное солнышко, но оно не греет. Мороз берёт своё. И хотя солнышко не греет, но всё равно его вид согревает душу и поднимает настроение. Приятное настроение нарушает неприятный гул одинокого самолёта. Высоко задираем головы и видим немецкий самолёт. Он делает над нами разворот и летит по фронту в сторону Лобни. Спору нет: самолёт фрицевский, их разведчик. Надрывно «лают» на него наши зенитки, но он спокойно улетает в свою сторону. Ждём немецких бомбардировщиков. Теперь и мы уже знаем, что вслед за разведчиком жди армаду фашистских стервятников. Так и есть. С запада нарастает тяжёлый гул самолётов, приближается вражеская армада. Мы пробуем посчитать, сколько их. Досчитали до 20-ти, а дальше не успели, немцы стали бомбить наш передний край и артиллерийские позиции. Наши зенитчики ведут по ним дружный огонь. Загорелся один вражеский самолёт, а бомбы продолжают одна за другой лететь на наши головы, засыпая нас комьями земли и снега. Мы плотнее и плотнее натягиваем на себя каски, всё ниже прижимаемся ко дну траншеи.
Но вот откуда ни возьмись в воздухе появляются наши краснозвёздные ястребки. Мы на какое-то время почувствовали себя под защитой. Неожиданно откуда-то сверху сваливаются два «мессера» и палят из пушек по нашим самолётам. Самолёт с красной звёздочкой ловко заходит в хвост немцу. Тот пытается уйти от него. Наш самолёт, изловчившись, даёт по фашисту длинную очередь из пулемёта, и тот, задымившись, идёт на снижение в свою сторону.
Засмотревшись на воздушный бой, мы забыли, что нас только что так жутко бомбили немцы, которые под натиском наших самолётов скрылись за горизонтом. Как только фашистские самолёты скрылись, их артиллерия и миномёты открыли по нам шквальный огонь. И после артналёта немцы пошли в атаку на наши позиции. Мы быстро готовимся к бою и по команде открываем по фрицам дружный огонь. Фашисты не выдерживают нашего огня, залегают. Офицеры, пьяные, куражатся, кричат на своих солдат, но падают, сражённые нашими пулями.
Наша 2-я рота из района «Будка» перешла в контратаку. Фашисты стали убегать, забирая своих раненых солдат, оставив на поле боя 12 солдат убитыми и два ручных пулемёта «МГ». Наши бойцы прихватили у немецких убитых солдат их карабины и автоматы, после чего у наших командиров появились прицепленные к кобурам для красоты блестящие шомпола в виде цепочки.
Противник открыл сильный огонь из своей обороны, и командир батальона капитан Зиновьев приказал 2-й роте вернуться на свои позиции.

В этом бою от бомб, пуль и осколков погибло много наших боевых товарищей. Погибли курсанты-ленинцы Василий Фролович Чернов, Алексей Фёдорович Шуравин и многие другие.
Сразу же после этого боя была написана листовка за подписью командира бригады полковника Будыхина и начальника политотдела бригады старшего батальонного комиссара Павленко с надписью: «Почитай и передай товарищу!», в которой были такие слова: «Товарищи бойцы 35-ой отдельной стрелковой бригады, бейте фашистов так, как бьют его курсанты-ленинцы части Зиновьева. Они дважды подряд разгромили превосходящие силы врага на станции Луговая. Вчера они упорно оборонялись, разгромили врага, перешли в контратаку, продвинулись на 300 метров вперёд и улучшили свои позиции. А сегодня враг обрушил на них десятки тонн металла с воздуха, громил беспощадно их боевые порядки из артиллерии и миномётов, после чего бросил против них больше роты хорошо вооружённой пехоты. Курсанты-ленинцы не дрогнули. Прочно удерживали занимаемый рубеж, выполняя наказ Родины: «Ни шагу назад, за нами – Москва!» Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Всегда помните этот наказ Родины! 3 декабря 1941 г.»
Вскоре после этих боёв некоторые особо отличившиеся бойцы получат боевые награды. Командир нашего батальона капитан Зиновьев будет награждён орденом «Боевого Красного Знамени», а получить в то время такой орден было ой как нелегко! Всем воинам нашего батальона комбригом Будыхиным была объявлена благодарность.
В ночь с 3-го на 4-е декабря [это событие произошло в ночь с 4 на 5 декабря – ссылка – прим.ДМЛ] наш 1-ый батальон на станции Луговая сменил 3-ий батальон нашей бригады. 2-ой батальон занял оборону иск. Луговая – Киово.
«1-ый стрелковый батальон без 2-ой стрелковой роты и одного взвода станковых пулемётов, выполняя приказ штаба 20-й армии, должен выйти в район д. Чёрной и прикрыть правый фланг 64-ой морской бригады». (Фонд 373, оп.6631, дело 3, лист 12-15)
64-я морская бригада в то время была на самом правом фланге 20-й армии. В ночь на 4-е декабря она получила приказ: «64-ой морской бригаде с 24-ой танковой бригадой уничтожить противника в с. Белый Раст и овладеть районом Никольское – Белый Раст – Зарамушки, прочно обеспечивая правый фланг армии». (Военно-исторический справочник «Битва под Москвой», стр. 47.)
Для ещё большего и надёжного прикрытия правого фланга 20-й армии и был направлен наш 1-ый батальон 35-ой особой стрелковой бригады.
Под покровом темноты мы вышли на Дмитровское шоссе и к утру заняли оборону по северо-западной окраине Черной. Здесь мы, наладив локтевую связь с левофланговой частью 1-й Ударной армии, остановились, но ненадолго. Сдаём свой участок 1-й Ударной армии и следуем в Катуар. Здесь составляем 3-ю стрелковую роту, а наша 1-я стрелковая рота следует в село Марфино. Это село находилось где-то в 5-6 километрах от передовой, и мы впервые за четверо суток непрерывных боёв почувствовали себя, как в раю. Пообедали мы в тот день поздно, только в 16:00, после чего нам разрешили повзводно и поотделенно разойтись по домам на отдых. Занимали мы заранее подготовленные дома, в основном те, где не было жителей. Хорошо натопили печи, сбросили с себя амуницию, и это было что-то необыкновенное, радостное, приятное на душе. И каждый, прежде чем заснуть, спешил написать домой письма. А написав письма, брякнулись на пол и заснули крепким сном, не чуя, как жарили нас клопы. После только по множеству кровяных пятен, оставшихся на белье, узнали и увидели их.
За ночь хорошо отдохнув, утром вышли и увидели перед собой панораму большого красивого села с церковью. Остановили старого местного жителя, и он рассказал интересную историю села. Водил нас по заснеженному парку с красивым застывшим прудом. Показывал псарни Голицына и многие исторические места. Говорил он нам, что большинство ценностей этого исторического села было разорено и разграблено французами в 1812 году, а потом с горечью сказал: «Рвутся сюда фашисты!» Мы ему ответили: «Не горюй, дедушка, Гитлера мы сюда не допустим! Здесь мы фашистов разгромим и погоним на запад со своей земли».
Дед походил на великого сторожа, оставленного народом охранять историческое село и находящиеся в нём ценности. Он улыбнулся счастливой, довольной улыбкой и сказал: «Верю вам, сынки мои, вы сильнее наших предков-кутузовцев и не пустите сюда наших врагов». Мы распрощались со стриком и пошли к своим жилищам на завтрак. Не успели позавтракать, как поступила команда, чтобы шли к лесу, будем получать какое-то новое оружие – американское.
Подбегаем к повозке. Берём в руки американские автоматы, пулемёты и карабины, на вид вроде неплохие. Хорошо обработан металл, блестят детали. Правда, намного тяжелее наших и калибр у нас – 7,62 мм, а у них – 9 мм. Хорошо, что патроны одинаковые, подходят и к пулемёту, и к автомату, и к карабину. У нас же на автомат другие патроны, меньше калибром и не подходят ни к пулемёту, ни к карабину, ни к винтовке. Ну а как же стрелять будут? Протёрли. Поставили железную бочку и стали пристреливать на 100 метров по начерченному мелом на бочке кругу. Выстрелили, бой оглушительный. Подходим к бочке: в кругу одна пробоина, а остальные четыре – по краям круга. Большой разброс. Позади бочки большущие дыры, пули разрывные. Автомат берёт помкомвзвода П.В. Гуськов (он отличный стрелок) — происходит всё то же самое. Вооружиться американским оружием охота пропала. Я первым не взял ни автомат, ни пулемёт, остался со своим «Дегтярёвым». А те, которые позарились на новое американское оружие, потом в первом же бою поздавали его в обоз, снова вооружившись своими трёхлинейками. Американское оружие в бою отказывало, быстро нагревалось, были частые утыкания патронов, не разбивало капсюль, било не метко и т. д. Вооружённый таким оружием боец скоро сам становился жертвой для врага.
Наши бойцы были злы на американцев и говорили, что они делают для фрицев второй фронт, Гитлеру помогают. Но некоторые из нас какое-то время ещё ходили с американскими автоматами «Томсонами» и показывали форс.
Время во втором эшелоне, где мы были на отдыхе, шло быстро. А впереди, где стояли наши передовые части, то и дело рвались снаряды, беспрерывно шла ружейно-пулемётная стрельба. Это наши 4-й (?), 3-й батальоны и 2-я рота нашего батальона прочно удерживали свои позиции, не пускали врага к Москве.
Используя время, отведённое на отдых, мы быстро искупались в бывших помещичьих строениях, используя их под баню. После бани плотно пообедали. А после обеда под прикрытием больших строений был митинг, на котором наш командир батальона сказал нам о новых задачах. Потом выступил со страстной речью наш комиссар Иосиф Константинович Яценко, который рассказал об обстановке на фронте и нацелил нас на выполнение боевых задач. В заключение зачитал воззвание Военного Совета Западного фронта, из которого мы поняли, что нам скоро предстоит наступать.
Вдруг из-за двухэтажной беседки в парке к нам идёт со свитой офицеров полковник. Командир батальона Зиновьев даёт команду: «Смирно!» — и идёт навстречу ему с рапортом. Решительным жестом руки полковник останавливает его. Подойдя к нашему строю, он сразу же начинает быстро говорить, видно, спешит. «Товарищи бойцы и командиры, я недавно назначен в нашу 20-ю армию начальником штаба армии. Проехал и обошёл все части и подразделения армии и должен сказать вам авторитетно: хорошие подобрались у нас в армии части и соединения. Это цвет наших вооружённых сил. Справа от вас храбро дерутся моряки-тихоокеанцы славной 64-ой морской бригады. Слева от вас беспощадно и героически бьют врага дивизии сибиряков и московских коммунистов. Здесь, в районе Луговая – Киово – Сухарево, не на жизнь, а на смерть дерётесь с коварным врагом вы, курсанты-ленинцы. Будьте готовы, дорогие бойцы, не сегодня – завтра мы дадим фашистам и пару и жару, побольше только, курсанты, постарайтесь дать огоньку, а я знаю, огонёк хороший вы можете дать, и тогда мы до конца сжарим фашистского зверя здесь, под Москвой. Я надеюсь на вас, дорогие курсанты-ленинцы, верю, что вы не подведёте и до конца выполните приказ Родины и Воззвание Совета Западного фронта!» Это был полковник Л.М. Сандалов.

Рассказывая об этой встрече с нами в своих воспоминаниях «Битва за Москву» (стр.251) Л.М. Сандалов пишет: «Я зашёл в одно из подразделений 35-ой особой стрелковой бригады. Бойцы с большим вниманием слушали торжественные слова воззвания Военного Совета фронта, которые читал комиссар батальона. Они заканчивались словами: «Подступы к Москве должны стать и будут могилой для немецких полчищ. НИ ШАГУ НАЗАД – ТАКОВ ПРИКАЗ РОДИНЫ. ИСТРЕБИМ ФАШИСТСКИХ РАЗБОЙНИКОВ ВСЕХ ДО ОДНОГО. НЕ ДАДИМ ИМ ЖИТЬЯ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!»
После митинга мы вышли на передовую. Наша 1-я рота сменила 2-ю роту, которую отвели назад, на наше место в Сухарево, дав возможность ей отдохнуть.
Наш взвод под командованием мл. лейтенанта В. А. Храпова занял оборону по железнодорожному полотну Савёловской дороги между Луговой и Сухарево в районе железнодорожной будки. Местность впереди нас хорошо просматривалась. Левее нас стояли подразделения 3-го батальона. Ведём пристальное наблюдение за противником, командиры обмениваются своими впечатлениями по наблюдению. Разведчики также ползают у фрицев под носом, заходят к ним в тыл, достают свежие сведения. Артиллеристы также готовятся. Одним словом, все активно приступили к работе, готовясь к чему-то важному.

Не успели мы по-настоящему расположиться в обороне, как к нашему ротному, с ним был и наш комвзвода Храпов, подходит заместитель командира 3-го батальона ст. лейтенант Н. В. Смирнов и рассказывает, как они плутали, когда выходили на позиции, и как от своего командира батальона майора Билютина получили разнос. Майор К.В. Билютин, командир 3-го стрелкового батальона, отважный комбат. Под Гжатском он был тяжело ранен. После излечения командовал гвардейским стрелковым полком под Харьковом, где под Тарановкой совершил подвиг и стал героем Советского Союза.
Его заместитель Н.В. Смирнов всегда находился на передовой рядом с бойцами, которые любили его. Ночью он почти никогда не спал. Много внимания уделял организации обороны. Ходил всегда в телогрейке и никогда не расставался со снайперской винтовкой, которая помогала ему выполнять две задачи: уничтожать фашистов, а также, пользуясь оптикой, наблюдать за обороной противника. Он лично выявил много вражеских огневых точек и нанёс их к себе на карту, с которой их перерисовал на свою карту и наш ротный Гудыма.
Не успел наш командир нанести на карту обстановку, как левее нас, в районе станции Луговая, где оборонялась 8-я рота 3-го батальона, противник открыл сильный артиллерийский и миномётный огонь. Через 15 минут артиллерия противника перенесла огонь по нашим артиллерийским позициям, а также по сёлам Сухарево, Шолохово, Троице-Сельцо. «В 17:00 5 декабря 1941 года противник бросил в бой против 8-ой роты до двухсот человек пехоты под прикрытием трёх танков, стремясь занять блиндажи у посёлка Луговая. (Арх. МО СССР ф. 1830, оп. 1, д.2, лист 14).
Завязался ожесточённый бой. Старшего лейтенанта Смирнова как ветром сдуло, он убежал в 8-ю роту, где решалась судьба не только роты, но, может быть, и всей бригады.
Немцы начали жестокий бой. Танки, развивая скорость, всё ближе подходили к позициям 8-ой роты. Немецкая пехота, несмотря на большие сугробы, которые нанесло за последние дни, не отставала от танков и, горланя во всю мочь свои бравурные песни, ведя огонь на ходу, приблизилась к позициям роты и открыла огонь по нашим противотанковым пушкам, которыми командовал командир дивизиона Дмитрий Васильевич Зайцев.
При подходе фашистской пехоты к нашим позициям по ней был открыт огонь из станковых пулемётов. Метко бьёт врага пулемётчик курсант-ленинец Стукаленко Валерий. К нему подбегает командир взвода Александр Игнатьев: «Молодец, Валерий! Дай им больше жару!» Валерий Стукаленко ещё в училище стрелял метко и не раз занимал призовые места. Падают замертво от огня Валерия фашисты, а комвзвода Игнатьев подбадривает его: «Так им, гадам, так…» Вдруг в кожухе пулемёта закипает вода. Надо бы сменить воду, да некогда, фашистские танки проходят наши траншеи. Вот они начинают утюжить наши окопы, в которых, не отступая ни на шаг, залегли бойцы. Выскочив из окопов, они забрасывают танки гранатами и бутылками с горючей смесью. Пулемётчики ведут шквальный огонь по пехоте противника. Немцы, не выдержав огня наших воинов, залегли, а многие начали отходить. Много фашистов осталось лежать на снегу убитыми.
В это время с опушки леса было выкачено на прямую наводку несколько наших пушек. Один танк уже стоял подбитый Алексеем Раструбовым, который впоследствии погиб в первом наступательном бою под Луговой.
Командир взвода Александр Игнатьев в упор расстреливал фашистов из автомата, а когда автомат был разбит осколком фашистской гранаты, он схватил у нашего тяжело раненного бойца винтовку и с криком: «Бей фашистских гадов, курсанты, вперёд!» — бросился на врага, увлекая за собой бойцов. Немцы не выдержали такого натиска и быстро скрылись под прикрытием одного недобитого танка.
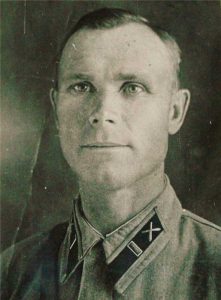
Утром мы увидели лейтенанта Игнатьева осунувшимся, измученным, а когда он снял с головы каску, все заметили, что его красивые русые волосы стали седыми, был ему тогда всего 21 год.
Общей борьбой нашей артиллерии с танками и артиллерией противника руководил наш замечательный командир, бывший преподаватель училища, а тогда – начальник артиллерии бригады капитан Владимир Фёдорович Ухов, погибший 12 декабря в боях за город Солнечногорск, одна из улиц которого названа его именем.
Сейчас на том месте в Луговой, где фашисты под прикрытием танков рвались к Москве и были отбиты нашими бойцами 35-ой особой стрелковой бригады, стоят бетонные столбы, на которых написано: «Здесь был остановлен враг, рвавшийся к Москве в декабре 1941 года».
Наступила ночь, кругом – сзади нас и по сторонам от нас – горели дома жителей близлежащих сёл, повреждённые зажигательными снарядами фашистов. От зарева пожара плохо была видна вражеская сторона, в то время как врагам нас было хорошо видно. Нам было приказано усилить наблюдение.
После этого боя мы недосчитались многих бойцов. Только в 8-ой роте было убито 6 человек, ранено – 17, многие пропали без вести. 3 станковых пулемёта «Максим» были помяты танками противника. (Ф. 1830, оп.1, дело 2, лист 8.)
После боя несколько человек от каждого взвода были отправлены с термосами за ужином в лес за 300 метров от передовой, где стояли наши походные кухни. Вместе с другими бойцами из нашего взвода был отправлен и я.
Отошли несколько десятков метров в тыл и здесь по «солдатскому радио» узнаём, что скоро будем наступать.
Вот стоят позиции наших миномётчиков (82-миллиметровые миномёты). Это расчёт нашего друга курсанта-ленинца Скурягина. Встречаемся как родные братья.
— Ну как, пехота, готовы к наступлению?
— Откуда вам это известно? — спрашиваем мы.
— Так ведь сказано, что завтра пехота начинает наступление, а вы ничего не знаете!
— Будем знать, когда нам скажут об этом командиры, — отвечаем мы миномётчикам.

— А что, «солдатское радио» для вас не авторитет?
На этом наша перепалка кончается. Подбегает наводчик миномёта Сергей Платоненков. Спрашивает о том, как мы стреляли и сколько положили фрицев.
Опять перепалка:
— А что, разве на них были отметки, поясняющие, кто их бил?
Помкомвзвода торопит нас, прекращаем разговоры и идём с ним за ужином.
Заходим глубже в лес и видим много кухонь. Но где наша? В лесу раздаются голоса, негромкие, но приятные: «Сидоровцы, ко мне! Прохоровцы, сюда!» и т. д. Это повара, называя подразделения по фамилии старших рот и батарей, подзывают к себе бойцов с термосами. Слышим знакомый голос и нашего повара Ивана Ивановича. Фамилию его никто не знает, но зато все называют по имени и отчеству. Он намного старше всех нас, и каждый старается быть с ним вежливым и дружелюбным, особенно когда требуется добавка.
Подходим к нашей кухне. Пока помкомвзвода стоит в очереди, подсчитываю, что у нас есть не менее получаса, и вместе с другом Мишей Хлопушей отпрашиваюсь в 3-ю миномётную роту, которая расположилась рядом с кухнями. Помкомвзвода отпускает не более, чем на 20 минут. Приходим к своим боевым друзьям, которых не видели несколько дней. И здесь тоже ведутся разговоры о завтрашнем наступлении. А потом Виктор Кияченко рассказывает о досадном случае, который произошёл с ним в разгар боя:
— Командир взвода дал команду «Заряжай!» Мы быстро опускаем мину в ствол. А она проползла немного и где-то в стволе застопорилась! Выстрела не получилось. Нас как ветром сдуло от миномёта. Отбежали назад и залегли в кустах, ждём выстрела, а его всё нет. Тут я осмелел, подошёл к миномёту, а в ствол заглянуть боюсь: вдруг мина выскочит оттуда. Тут, на счастье, шёл мимо боец-артиллерист, видно, кадровик, намного старше нас. Увидев, что мы испуганы, засмеялся, подошёл к миномёту и, узнав, в чём дело, ослабил ствол от лафета, повернул в шаровой пяте плиты, вытащил ствол, нагнул его, и мина медленно выползла на выход. Взяв её рукой, он извлёк её из ствола. Затем взял банник (метровая палка с ершом на конце для чистки ствола миномёта), тщательно протёр ствол от смазки, которой мы густо его смазали (а от мороза она ещё больше загустела), протёр мину, правильно установил её в миномёт, поправил прицел, впустил мину в ствол. Произошёл выстрел, а потом и разрыв мины в стане врага. Молодец артиллерист, не чета нам, салажатам. Мы поблагодарили его за полезную науку, и он ушёл в своё расположение. Обещал ещё прийти и поведать нам многое об артиллерийских хитростях. А когда после перерыва мы обрадовались и стреляли по фашистам так, что до ствола потом нельзя было дотронуться, — такой был горячий! – на выстрелы прибежал наш комвзвода лейтенант Гинсбург, стал допрашивать, почему мы долго не стреляли, мы, конечно, боялись и стеснялись ему признаться, сказали, что отказал миномёт, но после боя признались и вместе смеялись, хотя сначала в начале этой истории нам было не до смеха.
После рассказа Кияченко мы распрощались с друзьями и побежали к своим за термосом. Прибежали как раз в то время, когда старший сержант Гуськов только что закончил наполнение термосов пищей. Надев их на плечи, мы пошли в свои расположения, где с нетерпением нас ожидали наши товарищи.
Когда мы прибыли во взвод, командир отделения сержант Бородкин сказал, что взводного срочно вызвал ротный, велел оставить ему ужин в термосе, чтобы не остыл, а также приказал, чтобы все ели побыстрее, так как ожидается что-то серьёзное.
Не успели мы поесть, как вернулся командир взвода. Он был в хорошем настроении. Наутро нам предстояло наступать.
Время подходило к полуночи. Кругом горели сёла, зажжённые фашистскими зажигательными снарядами. В наших позициях шло уплотнение боевых порядков, так как при наступлении полоса всегда уже, чем в обороне. Прибыло пополнение. Получили и новый запас оружия. В боевых порядках появилось много противотанковых ружей, бутылок с горючей смесью, противотанковых гранат. Политработники в окопах разъясняли бойцам важность Генерального наступления под Москвой, воодушевляли их на новые подвиги. Комсорг нашей роты сержант Ивушкин на командном пункте командира роты собрал актив, от каждого отделения по одному комсомольцу. От нашего отделения был выделен я. Открывая собрание актива, комсорг роты сказал: «Товарищи комсомольцы, в настоящее время нет возможности собрать всех комсомольцев роты, решили пригласить самых активных. На повестке дня один призыв: «Комсомольцы, вперёд!» Так как наш комсорг был тоже курсантом-ленинцем, то основную часть своего выступления он посвятил боевым традициям нашего Ташкентского военного пехотного училища им. В. И. Ленина. Напомнил ещё раз, как наши старшие товарищи курсанты-ленинцы героически дрались в годы Гражданской войны с врагами нашего народа и в борьбе с басмачеством. Он конкретно указал, что долг каждого комсомольца – быть в атаке только впереди. Подчеркнул, что комсомольцев в роте было 70 %, а с коммунистами — 80 %, значит, мы сможем гарантировать полный успех в наступлении нашей роты и бригады в целом.
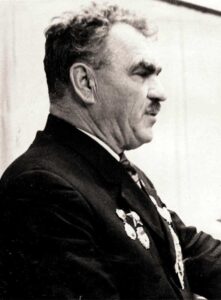
Потом выступил командир роты старший лейтенант Г.И. Гудыма, который сказал: «Нам предстоит наступать на одном из главных направлений, на город Солнечногорск. Впереди нас находится хорошо укреплённая полоса обороны противника на линии Красная Поляна – Озерецкое – Белый Раст. Прорвав эту линию обороны немцев, необходимо занять город Солнечногорск и освободить его жителей, которые уже с 23 ноября находятся на оккупированной немцами территории.
На пути к Солнечногорску воинам нашей бригады предстоит овладеть сильно укреплённым опорным пунктом немцев в селе Озерецкое, дома которого фашисты превратили в своего рода ДЗОТы, поставив в пробоинах стен пулемёты и пушки. Я надеюсь на вас, дорогие мои бойцы, комсомольцы, курсанты-ленинцы прославленного училища! Надеюсь, что вы не подведёте, высоко пронесёте знамя нашей 35-ой курсантской бригады и мы разобьём фашистского гада, где бы он ни прорывался. Дорогие друзья, вот и дождались мы того дня, когда будем выполнять одну из священных и почётных обязанностей – гнать немцев от стен нашей столицы Москвы. Удачи всем вам, дорогие мои боевые друзья! Всего вам доброго!»
С этими словами наш ротный распрощался с нами. В ответ мы ему пожелали того же. Это был своеобразный митинг. После него мы все разбежались по своим отделениям, разнося напутствия командира роты и нашего комсорга. Такие же собрания проводились в это время всюду по нашей бригаде. С коммунистами проводились партийные собрания. Всюду кипела политическая работа. Вот по окопам, по рядам бойцов пошла листовка-молния, только что отпечатанная политотделом бригады, возглавляемым комиссаром Павленко Евграфом Кирилловичем. В ней были написаны глубоко патриотические слова, призывающие каждого из нас к боевому подвигу во имя Великой Победы над врагом у стен героической Москвы.
К этому времени подразделения нашей бригады хорошо потеснила справа 64-я морская стрелковая бригада, а слева – 331-я стрелковая дивизия, которые, как и мы, выставили все батальоны в первый эшелон, оставляя в резерве отдельные подразделения автоматчиков. Вперёд вышла из Катуара и наша 3-я рота для наступления правым флангом по западной окраине села Сухарево.
Наша 1-я рота левым флангом осталась на своём месте, в районе будки, а правым флангом опустилась в лощину. 2-я рота заняла исходное положение между 1-й и 3-й ротой. 2-ой стрелковый батальон нашей бригады под командованием майора Фадеева, оставив своим левым флангом Киово, выдвинулся немного вправо и вместе с 3-им батальоном, которым командовал майор Билютин Кондратий Васильевич, вдоль Савёловской железной дороги опоясали посёлок Луговая. (Фонд.373, оп.6631, дело 3, лист 14-16).
Впереди нас стойко и жёстко оборонялись части 2-й танковой и 2-й пехотной дивизий противника. (Военно-историческая справка, стр.17.)
В то время как наши подразделения занимали новые позиции для наступления, противник, заметив эти действия, пытался мелкими группами просочиться через наши боевые порядки на рубежах 2-го и 3-го батальонов, но смелыми и решительными действиями наших автоматчиков, возглавляемых командирами взводов Цайгановым и Нестеровым, эти группы были уничтожены.
В эту ночь никто не спал. Все ждали сигнала для наступления, хотя каждый знал, что перед ним будет ещё артподготовка. Время наступления мы не знали, конечно же, было не до сна. Хотя, кроме дежурных, у огневых точек бойцы могли поспать прямо в окопах, на соломе, которую они успели натаскать. Но мороз не давал надолго заснуть.

Вспоминая об этих днях, начальник штаба нашей бригады полковник Г.М.Шнайдер писал: «Заняв оборону вдоль Савёловской железной дороги, мы сразу включились в тяжёлые оборонительные бои. Особенно тяжёлыми они были за удержание станции Луговая, которая несколько раз переходила из рук в руки. В бригаде сразу же появились большие потери.
Одновременно с ведением оборонительных боёв, в которых мы участвовали неделю, мы готовились к наступательным боям. Проводилась большая партийно-политическая работа, усиленно подвозили боеприпасы, продовольствие, тёплое обмундирование. В бригаду поступили первые противотанковые ружья, много бутылок с горючей смесью.
Перед самым наступлением к нам прибыло пополнение из московских комсомольцев, что подняло настроение у наших ребят, влило свежую струю в подготовку к наступлению. А вокруг горели подмосковные деревни, на нашей земле бесчинствовали фашисты. Ненависть к врагу у нас была беспредельной. Все рвались в бой. Под Москвой должен был начаться полный разгром врага, это понимал каждый.
Да, мы хорошо понимали, что именно здесь, под Москвой, должна начаться наша победа, хотя до светлого дня весны – 9 мая – было ещё далеко, почти три с половиной года. Мы тогда не знали, когда, в какой день встретим День Победы, но мы точно знали, что начнётся она здесь 6 декабря 1941 года. И мы с нетерпением ждали этой минуты». (Газета Солнечногорского района «Знамя октября», 17 апреля 1975 года).
Вперёд, на запад!
[описываются события в ночь-утро 8 декабря 1941 года — прим.Авт.]
Ночь на 6 декабря. Время медленно движется вперёд. Справа от нас всё время слышатся громовые раскаты выстрелов орудий и разрывы снарядов и тяжёлых бомб. Небо окрашено в жёлто-огненные сполохи. Это войска Калининского фронта накануне перешли в наступление и громят немецко-фашистские войска на своём направлении.

В наших окопах становится совсем тесно. Тут собралось много артиллерийских командиров и наблюдателей, саперов, командиров-танкистов. Большинство из них в новеньких белых маскхалатах. Наши разведчики только что привели немецкого пленного, «языка». Его взял «Василёк», так мы ещё в училище звали своего друга Василия Терещенко. Он держит автомат фашиста, а Александр Сидоренко – его необыкновенную обувь, сплетённую из соломы, — неуклюжие, большие «валенки».
Фриц был ещё фанатично настроен и доказывал нашим командирам, что если не сегодня, то завтра они обязательно будут в Москве и пройдут парадным маршем по Красной площади. Мы улыбались и были уверены, что эту спесь мы скоро с них собьём и они заговорят по-другому. Так оно и вышло.
Сапёры ушли под покровом ночи вперёд, чтобы сделать для нас проходы в заграждениях. В 4 часа утра в стороне противника появилось несколько пучков осветительных ракет. Вслед за ними в нескольких местах с той же стороны показались красные ракеты. Вслед за ракетами послышался грозный грохот танков и гвалт немецких солдат. «Переход в контрнаступление Калининского фронта заставил противника думать, что на рассвете и наш фронт сможет перейти в контрнаступление, и он пытался сорвать наше организованное контрнаступление внезапной атакой без артподготовки». (Арх. МО СССР, фонд 373, оп.6631, лист 15).
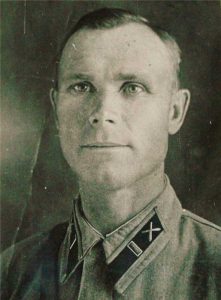
Наша противотанковая артиллерия под командованием начальника артиллерии капитана В.Ф. Ухова с запасных позиций открыла дежурный огонь по танкам врага. Мы, стрелки, подпустив поближе пехоту, открыли по ней огонь из пулемётов и автоматов. Головной танк загорелся. Остальные пять продолжали двигаться на нас. Вперёд вышли истребители танков курсанты Иванов, Золотухин, Халимжанов. Скоро послышалась автоматная стрельба, потом взрыв одной противотанковой гранаты, второй, третьей и ещё несколько разрывов гранат. Фашистские танки встали. Задымился один танк, потом второй, третий. Пехота врага отстала от танков, оставив на поле боя троих убитых. Осиротело поле боя, остались дымить три фашистских танка. Их подбил курсант Иванов. Фронтовая газета «Бей врага» об этом подвиге писала так: «…враг думает, что советский воин погиб. Но так думают немцы. А вот курсант Иванов, скромный русский человек, не дрогнул, когда на окоп лезло фашистское чудовище. Он лишь пониже нагнулся в окопе и выждал, пока подошли танки, а затем выпрямился и забросал танки гранатами и бутылками с горючей смесью. Так один за другим он уничтожил три вражеских танка. Героический подвиг Иванова служит примером для других». Золотухин и Халимжанов пали героически в этом поединке с фашистскими танками здесь, под Луговой, так и не изведав радости нашей победы под Москвой.
На рассвете открыла огонь наша артиллерия и миномёты. Началась артиллерийская подготовка, а затем наше контрнаступление.
Пехоту в траншеях можно поразить лишь бризантной гранатой. Мы видели, как множество чёрных шапок повисло над фашистской траншеей. Разрываясь, неслись под прямым углом к земле осколки, сея смерть и панику в стане врага.
Вели дружный огонь наши пушки и миномёты по траншеям и артиллерийским позициям фашистов. У нас сердце радовалось за хорошую работу наших артиллеристов и миномётчиков.
Стрелковые батальоны, занимая исходное положение в одну линию, ждали сигнала к атаке. Мороз в это утро смягчился, и термометр показывал 20 градусов. Но за последние три дня выпало очень много снега. Толщина снежного покрова достигала повсеместно до 45-50 сантиметров, а в низких местах и до метра. Удастся ли нам преодолеть его быстро? Об этом думал каждый.
После небольшой артиллерийской подготовки взвилась вверх красная ракета. Наступил долгожданный момент, и мы все дружно вылезли из своих окопов, пошли в контрнаступление. В этот момент вылезли из окопов все бойцы Западного фронта под командованием генерала армии Г. К. Жукова.
Это был поистине грандиозный момент, заставивший весь мир заговорить о начале разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, о начале Великой Победы над фашистской Германией.
Казалось, в этот момент не было сигнала к атаке, а какая-то неведомая сила вырвала всех нас из окопов одновременно и бросила на врага. Бежали мы все с радостными и искажёнными от крика «Ура!» лицами. В этом едином порыве мы были неудержимы, не обращая внимания на разрывы снарядов и мин врага, которые рвались почти у нас под ногами.
Не добегая каких-нибудь 150 метров до первой траншеи противника, преодолеваем по проходам проволочное и минное ограждение врага, в спешке немного перемешались, попав не в свои отделения. Фашисты усилили по нам огонь уже из автоматов.
Мы несём большие потери. Погибает командир 2-го взвода нашей роты младший лейтенант Жиров и его помощник. Принимает командование взводом командир отделения мл. сержант Абрамов и первым вступает врукопашную. Он лично уложил в том бою четырёх фашистов.
Командир нашей роты ст. лейтенант Гудыма, наступая в боевых порядках роты, увидел пулемётчика, скошенного пулей врага, быстро взял его ручной пулемёт и, перевесив через плечо, направил ствол в упор врагам, уничтожая их в окопах. Я оказался в это время рядом с ним и еле успевал подавать ему диски с патронами за второго пулемётчика, который был тяжело ранен.
А мл. сержант Ананьев, когда его ранило в руку, бросился сверху в окоп на фашиста и вместе со своими бойцами буквально растерзал фашистского гада.
Командир 2-го батальона майор Фадеев, будучи раненым, ходил с палочкой, размахивал ей левой рукой, держа пистолет в правой, со словами: «Соколики мои, бейте фашистов!» Увлёк за собой всех оставшихся в живых бойцов батальона, и вместе они доколачивали в рукопашной фашистов в траншеях.
Заместитель командира 3-го батальона майор Сидоров Михаил Осипович в критический момент вырвался впереди своих боевых порядков, показывая личный пример в атаке, пал смертью храбрых в боях за нашу Родину.
Много, очень много погибло наших боевых друзей-курсантов в этом первом наступательном бою. Когда мы с другом забежали на миг в один из фашистских ДЗОТов и выглянули через амбразуру в нашу сторону, туда, где мы наступали, увидели, что всё заснеженное поле было усеяно серыми комочками. То навечно легли на подмосковной земле наши боевые друзья курсанты-ленинцы, освобождая от фашистской нечисти первые метры нашей священной земли.
В этом бою мы освободили Институт кормов им. Вильямса с прилегающими к нему постройками. Далее путь лежал на Озерецкое. [это произошло 8.12.41 года — ссылка – ранним утром 8.12.41 командиром 35 осбр был издан боевой приказ №5 (ЦАМО РФ. Ф. 35 сбр. On. 1. Д. 1. Л. 7 — 8) о начале наступления и уничтожении противника в Институте кормов – прим. ДМЛ] Поле между первой и второй траншеями противника было изрыто снарядами и минами нашей артиллерии. Снег, на котором лежало много убитых фашистов, парил. Это, наверное, и называют «горячий снег». В воздухе пахло дымом, гарью и кровью.
На запад летело много наших краснозвёздных самолётов, мы никогда не видели столь много наших самолётов, которые летели бомбить вражеские позиции и тыловые объекты.
«В этот первый день нашего наступления наш сосед слева, 331 стрелковая дивизия под командованием генерала С.В. Короля и 28-я стрелковая бригада под командованием полковника Гриценко, нанося основной удар на Красную Поляну, продвинулись к восточной и юго-восточной окраинам Красной Поляны.
Две правофланговые бригады 20-й армии, 35 стрелковая бригада и 64-я морская стрелковая бригада, преодолевая сопротивление противника, продвинулись всего на 2-3 километра. Успех небольшой, но всё же успех. Сказывалось отсутствие опыта в наступательных боях». Так вспоминал об этих боях начальник штаба армии полковник Л.М. Сандалов («Битва за Москву», стр.250).
Преодолевая большой завал, сделанный немцами в лесу, мы вышли на опушку леса, чуть восточнее села Озерецкое. Перед нами открылась панорама сильно укреплённого опорного пункта немцев. Впереди высота изрыта траншеями, справа от нас – озеро Нерское, слева – озеро Круглое, оба скованы льдом. В дали села была видна церковь. Местность открытая, хорошо просматривалась противником и простреливалась стрелковым и пулемётным оружием. Село стояло как бы на утёсе, таинственном, суровом, ощетинившемся. Пленные, которых мы взяли, ничего вразумительного об обороне не сказали. От них наше командование только узнало, что в селе обороняется до двух хорошо усиленных батальонов 106 пехотной дивизии группы Гудериана. Где располагаются огневые точки противника, никто не знал, так как гарнизон в Озерецком находился на особом режиме, вход в него осуществлялся по особым пропускам, выход также. Местные жители были выселены из села и находились в землянках, поэтому наша агентурная разведка ничего не смогла разведать. Всё это усложняло наши боевые действия, и все вопросы могла решить наша бригадная разведка. С этой задачей блестяще справились наши бригадные разведчики под руководством начальника разведки бригады капитана Герасима Андриановича Прокопенко. Разведчики определили, что противник занимает круговую оборону, которая слабее на самых западных скатах высоты и по западной окраине села. Разведчики также уточнили, что почти все дома были переоборудованы под огневые точки и под позиции орудий прямой наводки.

7-го декабря командир нашей бригады полковник П.К. Будыхин получил приказ: вместе с 1-ым и 2-ым дивизионами 517 арт. полка и с 31-ой танковой бригадой уничтожить противника в районе Озерецкое и не допустить отхода на северо-запад Краснополянской группировки противника. (Ф. 1830, оп.1, д.1, лист 17.)
После продолжительное артподготовки, после которой казалось, что в Озерецком не осталось ничего живого, мы перешли в атаку. Но, когда мы прошли метров 400 от опушки леса, немцы открыли по нам смертельный огонь из домов из пулемётов и противотанковых пушек. Наши танки, которые должны были нас поддержать, отстали. Наш батальон должны были поддержать три танка, один КВ и два Т-60 отстали от нас, и мы увидели, как они горят. Мы упорно продвигались вперёд без танковой поддержки под губительным огнём противника, теряя своих боевых друзей. Не доходя до вражеской обороны метров 500, начинаем двигаться перебежками. Ряды наши тают. Слышим по цепи приказ: «Отходить на исходное положение по отделениям». Поочерёдно отходим на своё исходное…
В это день мы больше не наступали. И хотя успеха мы не имели, но в ходе наступления наши разведчики и артиллеристы выявили и засекли все огневые точки противника и подготовили по ним основательный, точный огонь.
«В этот день на поддержку нашей армии, помимо армейских и фронтовых средств, было привлечено свыше ста орудий из Московской зоны обороны и авиации из резерва ставки Верховного Главного командования, которые должны поддержать наше наступление, намеченное на 8 декабря. (Военно-исторический справочник «Битва за Москву», стр.250.)
Мы, в свою очередь, произвели группировку своих сил. Наш батальон под командованием капитана Зиновьева вышел ближе к озеру Нерскому, откуда мы должны были нанести удар по врагу почти в тыл. 2-ой батальон должен был наступать правее шоссе, левее нашего батальона, 3-ий батальон — в стыке между 1-м и 2-м батальонами, метрах в 300-х сзади, в готовности развить наш успех.
В каждой роте готовятся истребители с задачей пробраться ночью к домам, в которых засели фашисты, и забросать их бутылками с горючей смесью. Группу истребителей возглавил наш командир взвода лейтенант В. Храпов. А на рассвете в Озерецком сразу вспыхнуло от наших зажигалок несколько домов. Со стороны Киово по Озерецкому был дан залп знаменитых «Катюш». Заговорили и остальные наши пушки. После небольшой артподготовки мы перешли в наступление. Мы теперь как-то увереннее пошли в атаку и не заметили, как увлечённые успехом боя, преодолели по сугробу более километра и оказались на северо-западной окраине села, уничтожая выбежавших из домов фашистов.
Немцы бегут в огороды. Рядом со мной строчит из пулемёта курсант Хлопуша. Я стреляю из винтовки. Со всех сторон раздаётся наше громкое «Ура!».
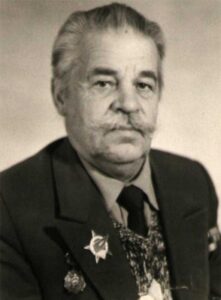
Из одного дома, уже загоревшегося, продолжает строчить немецкий пулемёт. Наше отделение устремляется к этому дому. На дороге стоит грузовая автомашина, я со своим другом Валентином Чичвинцевым подбегаю к ней. Шофёр старательно спешит завести машину, она не заводится. Я подбегаю со стороны, где сидит шофёр, Чичвинцев – с другой стороны. Немец, сидевший рядом с шофёром, первым замечает меня и наставляет автомат, но не успевает выстрелить, как с другой стороны его приглушает Чичвинцев. Немца и шофёра выволакиваем из машины и сдаём бойцам, которые ведут пленных, а сами устремляемся вперёд.
Подошли два наших танка, которые до этого продолжали стоять восточнее Озерецкого. Подействовала просьба нашего комбрига Будыхина, который всё время звонил командующему армией по поводу того, что танки 31-ой танковой бригады не поддерживают наши подразделения, продолжают стоять на западной опушке леса восточнее Озерецкого, а бригада несёт потери. (Арх. МО СССР, ф.373, оп.6631, з.3, лист 20)
И вот два танка. Какая это для нас была радость! Тяжёлый танк поднимает ствол пушки и бьёт по церкви. Фашистский пулемёт замолк. В одном из окопов засели фашисты. Командир взвода автоматчиков Цайганов с криком «Ура!» бросается к этой группе со своими автоматчиками, ведя огонь на ходу, заставляет фашистов покинуть окоп. Кругом бегут немцы, но, убегая, они огрызаются и обливают дома из канистр с бензином, поджигают их. Бой идёт, не затихая, уже несколько часов за малоприметное селение Подмосковья. Кругом лежат трупы убитых наших и немцев. В воздухе пахнет жареным, смрадом, порохом, дымом, одним словом, пожаром войны.
С боями подходим к западной окраине села. Бежим к догорающему сараю, где собралось много наших бойцов. Здесь мы увидели жуткую картину. Догорали останки наших пленных бойцов. Оказывается, немцы заперли более 200 наших бойцов в сарае, облили его бензином и всех заживо сожгли. И вот теперь на наших глазах они догорали. Спасти даже какой-либо труп не было уже возможности. (Арх. МО СССР, фонд 373, оп.373, дело 3, лист 22.)
Понятно, что наши сердца ещё больше наполнились ненавистью и злобой к фашистским варварам. Мы рвались вперёд, чтобы отомстить за их злодеяния.
Не успели мы выйти из Озерецкого, как далеко впереди, со стороны села Глазово, услышали шум танков. Мы отходим на несколько метров назад и занимаем окопы, вырытые когда-то нашими бойцами при отступлении наших войск. Готовимся к встрече с фашистскими танками. Слышим громкий голос нашего командира роты: «Приготовиться! Танки!» Видим, как в лесу под напором могучей силы ломаются молодые ели и сосны. И вот он – первый танк врага. За ним, разворачиваясь правее от нас, появляются другие танки, их много, целая армада. И на большое скорости они идут в нашу сторону.
Сзади от нас подошли два наших танка, но контратаковать не решаются, больно неравные силы. Вместе с нашими сорокопятками они дают по танкам врага несколько прицельных выстрелов.
Ближайший танк, который был от нас не более чем в 300-х метрах, остановился и стал водить своей длинной пушкой, потом покрылся дымом, послышался громкий выстрел, и линию нашей обороны потряс грохочущий разрыв тяжёлого снаряда. А потом по нам стали стрелять и другие фашистские танки. В воздухе распространился запах сгоревшего тротила. Наши танки и противотанковые пушки залихватски отвечают на выстрелы немецких танков. А вот пошла и фрицевская пехота, поддерживаемая огнём своих танков. Вражеские пехотинцы идут неуверенно.
Мой друг Алик, находившийся рядом со мной в окопе, проговорил, как бы для ребят: «Фрицы идут вяло, не то что под Луговой. Бояться нас стали. А может, они трезвые сегодня? Как хотелось бы…» Вдруг рядом с нами раздался оглушительный взрыв немецкого снаряда, и Алик Мухит(мазин?) (неразборчиво) замолк. Я энергично поворачиваю голову в его сторону и вижу, как мой друг курсант-ленинец сполз телом по стене окопа, упал на дно траншеи. По его лицу текла струйка крови. Я поднял упавшую с него каску, в ней было большое, с неровными краями, отверстие. Взрыв был рядом, и осколок с большой силой, пройдя перпендикулярно поверхности каски, пробил её.
После боя вместе с другими бойцами мы похоронили его здесь же, в окопе. Но к каске я тогда как-то потерял доверие и вместе с противогазом, как и многие наши бойцы, потихоньку закинул в одну из повозок обоза. Но скоро мы снова надели каски, убедившись в их надёжности, а вот противогазы многие из нас так до конца войны и не надели на плечо. Правда, сумку от противогаза использовали многие, в том числе и я, вместо вещевого мешка, храня в ней сухой паёк, кусок солдатского мыла, тряпку вместо полотенца, так как они скоро ушли на бинты для раненых боевых друзей. И к этой сумке привязывали котелок, постоянный спутник бойца, помощник солдата в деле пополнения организма калориями. Ложку большинство солдат хранило за голенищем сапога или обмотки.
Тут откуда ни возьмись после приятного для нас скрипа в воздухе прошипели, оставляя длинные хвосты, мины наших «Катюш». Немецкую пехоту как ветром сдуло. Ещё сильнее заработала по танкам фашистов наша артиллерия.
Тронулись вперёд почти без сигнала и мы, пехота, царица полей. Враг начал бежать с нашей земли по-настоящему и порой догнать его было теперь непросто. Враг бежал, сжигая на пути отхода наши сёла и всё уничтожая.
Об этом эпизоде так вспоминал после войны начальник штаба нашей армии генерал-полковник Сандалов: «8 декабря воины генерала С.В. Короля и полковника А.И. Гриценко разбили части противника в Красной Поляне и вышвырнули его из посёлка. Противник, отступая на запад, оставил в районе Красной Поляны свыше 30 танков и броневиков, много орудий и миномётов. Среди трофеев оказалась привезённая накануне пушка свыше 200 мм, из которой гитлеровцы намерены были обстреливать Москву.
64-я морская бригада дерзкой атакой уничтожила большую часть врага в селе Белый Раст, а остальные обратились в бегство. На поле боя осталось 17 вражеских танков и 6 бронемашин. Через несколько минут мне позвонил полковник П. К. Будыхин и доложил: «35-я стрелковая бригада совместно с 31-ой танковой бригадой полковника Кравченко ударами с фронта и тыла овладела селом Озерецким и перешла к преследованию врага…» (Военно-исторический справочник «Битва за Москву», стр.25.)
Просто сказать «преследование», но на каждом шагу нашего движения нас ожидал рок войны. Около каждой деревни противник оставлял заслоны, задачей которых было задержать наше продвижение. Сбить эти заслоны порой было нелегко. На деревьях в лесу фашисты оставляли своих «кукушек», снайперов, которые уничтожали в основном наших командиров.
Глубокая ночь 9-го декабря, а у нас с раннего утра во рту не было ничего горячего. Хлеб замёрз, как камень, не угрызёшь. Разбивали буханки штыком и клали куски за пазуху, ближе к горячему телу. Как только с краешку немного оттает, обгладываем. Так же грызём и концентратную перловую кашу, которую дали нам на сухой паёк как НЗ. Ну что это за еда для молодого человека, всё время в животе кишки играют «марш». Как только кто-то начинает говорить про еду, помкомвзвода успокаивает, говорит, что на голодный желудок легче переносить ранение в живот.
Проходим горящие сёла Глазово, Акишево, Овсянниково, сбивая на ходу фашистские заслоны. Сбиваем заслон в Бабаихе, заходим в неё. Выходим на поляну, и тут падает, как скошенный, сражённый немецким снайпером, связной командира роты Капитонов. Он был с полевой сумкой командира, и немцы думали, что он командир. Здесь, в лесу, мы его и похоронили.
В районе Рождествено наши разведчики взяли в плен «языка», немецкого офицера, который сказал, что подразделения 106-й пехотной дивизии отходят на рубеж Кочергино, где на заранее подготовленных позициях должны дать нам бой, чтобы обескровить наши части и под Солнечногорском окончательно добить. Но и здесь немцы просчитались. На рубеже Кочергино мы рассеяли большое подразделение немцев и заставили их бежать, оставляя много убитых. Кочергино – первое освобождённое нами село Солнечногорского района. Горит Кочергино, зажжённое фашистами. Мы идём в направлении Хметьево, Редино.
«К обеду 11 декабря 35-я бригада вышла к Хметьеву. При наступлении бригады от Кочергино до Хметьево в полосе её наступления было много убитых немецких солдат, были взяты трофеи: средних танков – 1, орудий ПТО – 4, кухонь – 2, автомашин – 30, самолётов -7, мотоциклов – 1, много винтовок и ручных пулемётов». (Ф 3, оп.6631, дело 3, лист 24.)
Разбив в Хметьево усиленную стрелковую роту, на «плечах» противника ворвались в совхоз Талаево и Никольское, что находятся на подступах к городу Солнечногорску.
Всю ночь с 11 на 12 декабря наш 1-ый батальон вёл упорные бои за северо-восточную окраину города Солнечногорска, район Текстильщики. И к трём часам утра (это была ещё глубокая ночь) 1-ый стрелковый батальон с 1-ой миномётной ротой, взводом ПТР, батареей 45 мм пушек после взятия Рекинцо овладел районом Текстильщики. (В настоящее время никто в городе Солнечногорске не знает, что в то время называли Текстильщиками: или район города, или какой-то небольшой заводик, фабрику. Но в архивных документах значится так. Ф. 373, оп.1, дело 2, лист 18.)
2-й стрелковый батальон с миномётной ротой, взводом ПТР, с батареей 45 мм пушек, с батареей 76 мм пушек образца 1927 года получил приказ вместе с 31-й танковой бригадой наступать из Дубинино, где батальон находился с 13:30, на Карпово, Кресты с заданием – выйти в район Субботино, Турицыно.
Выйдя в район Кресты, батальон получил задачу: через Спас. Слободку овладеть самой южной окраиной города и выйти в тыл противнику в район Стрелино на Субботино и Турицыно, создавая вместе с 64-й морской бригадой, которая наступала с севера города, угрозу окружения, полностью отрезав врагу пути отхода на запад, и вместе с наступающими частями с фронта уничтожить его в районе Солнечногорска.
2-й батальон, выйдя в район Бутырки, был встречен сильным огнём противника. Разведка доложила, что в Бутырках обороняется стрелковая рота. Бойцы были посажены на танки и обошли Бутырки с юга. Спешившись в Спас. Слободе, не доходя до неё, завязали бой с гарнизоном Спас. Слободы. Но противник вёл пулемётный огонь из Бутырок во фланг 6-й роты. Неся большие потери, рота освободила Спас. Слободу. В этом бою особенно отличились пулемётчики станковых пулемётов под командованием старшего сержанта С. С. Сафонова, покосив своим огнём много фашистов, освобождая село. Вот как об этом вспоминает бывший боец Александр Кузьмич Гусев:

«Особенно беспокоили нас фашистские автоматчики, стрелявшие с чердаков села Спасская Слобода. Я разбросал копну какой-то травы и, прикрывшись ей сверху, отыскивал цели и уничтожал их из винтовки. А когда фашисты убили пулемётчика (звали его Федя, фамилию не помню), я схватил ручник, рота в это время пошла вперёд, а я в это время на ходу из пулемёта стрелял по фашистам». Гусева в роте все уважали, хотя по годам ему было всего 20 лет, все звали его по отчеству, Кузьмич, в знак уважения, так как он успел уже повоевать и от пережитого был намного старше своих лет. В июле 1941 года под Смоленском участвовал в рукопашной схватке с врагом, в которой был тяжело ранен фашистским штыком в лоб. С гордостью носил валенки, которые подарил ему лично Г. К. Жуков, называл их генеральскими.
Это было уже в нашей бригаде. Бойцы Гусев и Цыкин при следовании на Поповку были в боковом дозоре. Вот как об этом вспоминает он сам: «Вышли мы с Цыкиным на полянку и видим, как немец несёт на горбу раненого немца. Мы попытались их обойти и взять живыми, но тот, который нёс, положил раненого и стал отстреливаться. Пришлось его пристрелить, а раненого забрать. Подошли к командиру батальона Фадееву с раненым немцем. Пленный лейтенант-танкист был ранен в ногу, а также был очень разговорчив, сильно ругал Гитлера. Комбат поручил нам вести его в штаб бригады, наказав, чтобы мы его берегли, так как он оказался ценным «языком». Вышли с пленным на дорогу, посадили его на пенёк и решили отдохнуть, так как пленный был тяжеловат и тащить его было нелегко.
Откуда ни возьмись – на дороге несколько легковых автомашин, и из одной вылезают два важных генерала. Спрашивают, где взяли танкиста, называя нас разведчиками. Мы рассказали, второй генерал спросил немца по-немецки. Тот ему ответил. Потом он сказал старшему генералу, что в роте у них осталось 1-2 танка. Потом старший генерал спрашивает нас: «Замёрзли, разведчики?» Мы ответили, что нам не привыкать. Мы оба были обуты в ботинки с обмотками, так как в то время валенок хватало не всем. Генерал приказывает второму, чтобы тот дал нам валенки. Генерал приносит из машины валенки и даёт их Цыкину, так как у него были ботинки похуже. Тогда генерал строго спрашивает второго:
- А этому что же не дал?
- Так там, товарищ генерал, только Ваши!
- Дай ему мои.
И я получил новые, с начёсом, генеральские валенки, в которых ходил зимой всю войну и берёг их как зеницу ока. С нашего разрешения пленного они забрали с собой, сказав, что хороший им в дороге будет компаньон. А когда мы пришли в батальон и доложили комбату о случившемся, комбат сказал: «Так это же Георгий Константинович Жуков был, без сомнения». И позавидовал генеральским валенкам, что они не у него.
Уже после войны, когда вышла книга Г.К. Жукова «Размышления и воспоминания», написал Жукову письмо и рассказал об этом эпизоде. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков прислал мне книгу с надписью: «В память о боях под Москвой в 1941 году. Г.К. Жуков».
А сейчас наш Кузьмич пока воюет под Солнечногорском, будет воевать в Солнечногорске, Волоколамске. Под Пагубино его снова ранят в ноги. После излечения будет воевать в 415-ой стрелковой дивизии под Сычовкой, где вместе с начальником штаба, удерживая оборону, подобьёт 15 немецких танков. В этом бою Назаркин был убит и ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а Гусев был тяжело ранен.
В 1943 году он был комиссован. Но в 1944-ом добровольно снова пошёл на фронт. Воевал в Познани, Келиш, Бреслау. В предпоследний день войны его снова оглушило. После войны работал учителем в Узбекистане и стал заслуженным учителем республики. Последнее время жил в Ташкенте.
В боях на подступах к Солнечногорску 2-й батальон потерял только убитыми 30 человек, в их числе: Козырев И. Д., Хлебин И. И., Кратель Д. П., Горшков А. Н., Валетов Я. Ф., Тулегенов, Карасартов, Мальков и много других.
Батальон вместе с танками в 3 часа ночи с боями ворвался на юго-западную окраину Солнечногорска.
«3-й батальон под командованием майора Билютина К. В. наступал, как и все батальоны, по глубокому снегу. Под сильным огнём, который противник вёл с чердаков домов, батальон достиг южной окраины города и закрепился там. Итак, в 3 часа ночи части 35-ой ОСБр занимали позиции на ведущих рубежах:
1-ый стрелковый батальон под командованием капитана М. Н. Зиновьева – на северо-восточной окраине Солнечногорска;
2-ой стрелковый батальон под командованием майора Фадеева – на юго-западной окраине города;
3-ий стрелковый батальон под командованием майора Билютина – на южной окраине города;
31-я танковая бригада под командованием полковника Кравченко заняла позиции вместе со 2-м батальоном 35-ой ОСБр на юго-западной окраине города.
Справа, через Загорье на Головко наступала 64-я морская бригада.
Слева на Обухово, Ожогино – 331-я стрелковая дивизия. (Арх. МО СССР. ф. 373, оп. 6631, дело 4, лист 18-19.)
Все службы бригады вели тщательную подготовку к штурму обороняющегося в Солнечногорске противника.
Командир бригады полковник Будыхин приказал начальнику артиллерии В.Ф. Ухову подготовить огонь артиллерии и миномётов так, чтобы не зажечь ни одного дома в городе, так как дома почти все были деревянные. Огонь артиллерии поэтому был в основном подготовлен по позициям врага, находящегося за городом, и нешироким площадям города, где были размещены пушки и миномёты противника.
К утру справа нас потеснили подразделения 55-й стрелковой бригады, и наш 1-й батальон оказался в центре наступления на город в направлении церкви. Остальные наши батальоны были на прежних местах. С рассветом 12 декабря наша артиллерия открыла огонь по намеченным позициям врага. Взвилась красная ракета, и мы пошли в атаку на штурм города.
С криком «Ура!» ворвались в город. Бежим по городу и стреляем на ходу по фашистам, прыгающим с чердаков. Нашего плена они продолжают ещё бояться, но многие ведут себя в плену уже не так вызывающе. Всё чаще слышим от них слова: «Сталин гут, Гитлер капут».
Батальоны продолжают идти вперёд, а нашу роту, а также по одной роте из других батальонов оставляют для прочистки города, так как у нас в тылу осталось много немцев, засевших на чердаках и продолжающих убивать наших бойцов с тыла. Мы повзводно поворачиваем назад и так же в цепи, но пореже проверяем все дома и чердаки на фронте наступления нашего батальона. Видим, как бежит фриц с канистрой, чтобы поджечь дом. Но пулемётчик Махомеджанов очередью из пулемёта убивает его, не дав ему выполнить зловещее действие – поджечь дом.
С одного чердака стаскиваем немца с пулемётом. Поначалу он куражился, но после того как Чичвинцев сбил с него спесь, быстро затараторил: «Сталин гут, Гитлер капут». «Давно бы так», — ответил ему Чичвинцев и отправил в штаб батальона, где их собралось уже много. Одного из пленных пришлось конвоировать и мне. Подбежала к нему женщина с палкой, она пыталась его ударить со словами: «Я покажу тебе курки, яйки! Я покажу тебе, что такое русские (женщины? слово неразборчивое), это тебе не Франция!». Еле отбился от неё сам. Вот как досадили жителям немцы за время оккупации.

От жителей узнали, что ни один дом, ни одна семья не пострадали от нашего огня. И ни один дом в Солнечногорске не сгорел благодаря нашему стремительному натиску на немцев, хотя почти возле каждого дома были канистры с бензином, который фашисты должны были использовать в самую последнюю минуту, чтобы поджечь дома.
Когда мы подошли к церкви, увидели много народа. Оказалось, что это жители города, которые были заперты в церкви, — старики, женщины. Их освободили бойцы 2-го батальона, которые успели первыми с юга через станцию Подсолнечная прочесать город. Николай Гриценко услышал жалобные голоса из церкви. Бойцы сбили замок, из церкви, еле волоча ноги, с плачем и криками: «Родненькие наши!» — вышло много стариков, женщин, детей. Они бросились бойцам на шею, стали слабыми руками обнимать и целовать бойцов. Все они были обречены на сожжение фашистами.

Скоро все люди вышли из домов и землянок и образовался стихийный митинг, на котором блестяще выступил комиссар нашей бригады Алексей Яковлевич Фролов и комиссар штаба бригады Артём Саввич Ижак. И кругом слёзы радости, а для многих и большой печали, так как у многих погибли на этой войне дети и мужья.
Трудящиеся Солнечногорска торжественно встречают воинов-освободителей. Здесь мы узнали, что в боях за Солнечногорск погиб начальник артиллерии бригады
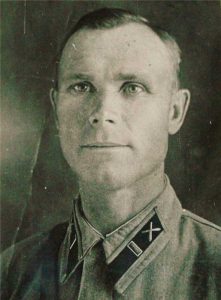
майор Ухов В.Ф. Перед смертью ему было присвоено воинское звание майор.
Сейчас в Солнечногорске одна из улиц называется его именем. Он заслужил вечной памяти солнечногородцев, так как благодаря грамотному и умному командованию артиллерией бригады не пострадал ни один дом города.
К полудню 12 декабря Солнечногорск был полностью очищен от фашистских захватчиков. Выйдя на западную окраину города, наши части взяли следующее направление: 1-ый батальон – на Стрелино, 2-й и 3-й на Ожогино, где ещё прочно укрепились фашисты. А когда наша рота, очистив Солнечногорск, следовала на его западную окраину, догоняя наши части, по пути мы захватили обоз немцев с полевой кухней. Для сопровождения обоза в штаб направили Сашу Григорьева. Об этом случае вспоминает начальник штаба бригады полковник Шнайдер в газете «Знамя октября» Солнечногорского района от 17.04.75: «Но вот заскрипел снег под полозьями, к штабу подъехал обоз. Что такое? Смотрю в окно: в санях – мешки, а на мешках – наши бойцы, весёлые, хохочут. Оказывается, эти сани немцы не успели захватить с собой, а в мешках – битая птица, которую бросили, убегая из Солнечногорска. Испортили мы им аппетит, смеялись бойцы, не до курочек было фашистам…»

До ближайшей группы наших бойцов на западной окраине города оставалось каких-нибудь 100 метров, как на наши боевые порядки налетело 12 «Юнкерсов», немецких самолётов, которые стали беспощадно нас бомбить. Я с группой своих товарищей оказался в расположении разведчиков нашего батальона. Вижу, как мой друг Александр Сидоренко укрылся за кустом, должен спастись. Я ложусь рядом с ним. «Юнкерсы» делают круг за кругом и продолжают нас жестоко бомбить. Давно мы не были под такой бомбёжкой. В последнее время мы привыкли видеть в небе больше наших краснозвёздных самолётов, а тут как на грех – ни одного, не слышно и стрельбы наших зениток. Над нами постоянно висят немецкие самолёты, и, кажется, не будет конца бомбёжке, этому аду. Кругом шум, стон, душераздирающие крики раненых, убитые молчат. Наконец бомбы перестали лететь на нас, и фашистские лётчики приступили к стрельбе из пулемётов. Открыли и мы огонь по самолётам из винтовок и пулемётов. Смотрим, как загорелся один «Юнкерс» и пошёл вниз. Его сбил из станкового пулемёта, приспособленного на крыльце штаба батальона Виктор Пайганов, за что ему потом вручили орден «Красной звезды». Почти час длилась бомбёжка и обстрел из пулемётов наших боевых порядков. Час, который для нас показался вечностью, нервы были напряжены до предела, внутри, казалось, всё было вывернуто. А когда всё кончилось, мы не могли сказать друг другу ни слова. Потом до конца войны многие из нас тяжело переносили бомбёжку. Казалось, ничего не бывает страшнее.
После бомбёжки наша рота немного выдвинулась вперёд и заняла своё место в боевых порядках батальона.
В боях за город Солнечногорск бригада потеряла убитыми более ста человек. Был тяжело ранен командир 2-го батальона Пётр Дмитриевич Фадеев. Батальоном стал командовать Шамшурин Иван Михайлович.
Пока сапёры делали мост через р. Истру, у нас образовалась небольшая передышка, и мы получили возможность встретиться друг с другом, с курсантами-ленинцами, узнать, кто остался жив, а кто ранен или ещё хуже – убит. Узнали, что только вчера были живые и весёлые Ваня (фамилия неразборчива), Полянов Коля, Бодреднов Маини, Ворожбитов Александр, Лунин Андрей, Клышта Филипп, Елибеков Нуржапар, не стало Коли Мурзина, (фамилия неразборчива) Алексея, не стало моего друга, героя Луговой, Саши Таранцева. Погибло много наших друзей-курсантов. Как-то жутко стало.
Подходит к нам всеми уважаемый комиссар Артём Саввич Ижак. Поздоровавшись, спрашивает: «А скажите, дорогие мои друзья курсанты-ленинцы из Узбекистана, как ещё называли нашу бригаду?» Начинаем отвечать: «Особой курсантской, ударной курсантской». А кто-то говорит: «35-ая отдельная стрелковая бригада солнечного Узбекистана». «Вот, правильно! А можно ли назвать случайностью, что 35-я бригада из солнечного Узбекистана освободила город Солнечногорск? Как видите, названия идентичны. Нет, дорогие друзья, тут нет никакой случайности. В этом большом и ответственном деле свою роль сыграло наше общее стремление к светлому будущему, которым проникнуты все воины. Благодаря тому, что мы верим словам нашей партии, что наше дело правое, благодаря тому, что нами командуют хорошие командиры и политработники во главе с нашим прославленным и уважаемым комбригом полковником Петром Кузьмичом Будыхиным, мы победим.
Теперь перед нами стоят не менее важные задачи, а, пожалуй, более ответственные, отогнать ещё дальше немцев от Москвы, окончательно освободить нашу землю и встретить Победу на вражеской земле. Ближайшая задача, которая нам предстоит, — освободить город Волоколамск. Этот город генерал Рокоссовский назвал воротами Москвы. Так, наша задача – освободить Волоколамск и закрыть Московские ворота надёжным образом, чтобы через них ни одна крыса не пролезла. И я уверен, что курсанты-ленинцы успешно справятся и с этой задачей».
Комиссар рассказал нам, сколько убито фашистов в боях за Солнечногорск, сколько взято трофеев, цифры были внушительные. А самое главное, сказал он, что мы не дали врагу сжечь город. В Солнечногорске было собрано более 20-ти канистр с бензином. Ещё немного – и они вспыхнули бы на солнечногорских домах. Мы спасли от угона в Германию более сотни молодых людей, освободили и спасли узников, запертых фашистами в церкви. Очень много добрых дел сделал боец из Узбекистана для жителей Солнечногорска и района, многое он ещё должен сделать и сделает наверняка. С этими словами наш комиссар распрощался с нами и пошёл в другие подразделения. Скоро пришла к нам в лес наша уважаемая кухня, и мы все добротно подзаправились. После этого, организовав хорошее наблюдение за противником, наши командиры разрешили свободным от смены хорошо отдохнуть перед предстоящими тяжёлыми боями. И мы, наломав как обычно разлапистых еловых веток, «утеплили» ими вырытые в снегу ямки и завалились спать. И хотя несколько суток глаз не сомкнули, спать было неприятно, так как в ночь хорошо подморозило, а обувь намокла от сырого снега. Но усталость и перенапряжение взяли своё, мы сумели немного заснуть. К утру продрогли до костей и бегали погреться к небольшому костру, который кто-то сумел разжечь вопреки маскировке.
Рано утром, ещё затемно, плотно позавтракав и запасясь сухим пайком, мы взяли направление на Волоколамск, но на пути в деревне Горки противник, используя возвышенность, укрепился и встретил нас хорошо организованным огнём из всех видов оружия. Завязался ожесточённый бой. В этом бою был тяжело ранен наш командир роты Гудыма. С большой грустью расставались мы со своим любимым командиром. Вместо него стал командовать ротой лейтенант Сайганов, командовавший до этого взводом противотанковых ружей (ПТР).
20 декабря на плечах противника воины нашей бригады ворвались на северо-восточную окраину станции Волоколамск, где мы встретили намного превосходящие силы противника. Почти сутки мы вели непрерывные тяжёлые бои, чтобы выгнать фашистов со станции, и только 21 декабря станция была полностью очищена нами. Выйдя на западную окраину станции, в развёрнутой цепи наш батальон пошёл на село Холстниково, а 2-й и 3-й батальоны с 17-ой танковой бригадой пошли в атаку на Пагубино. Здесь противник, наспех зализав раны, встретил нас сосредоточенным огнём. Закипел

жестокий бой. Злобно захлёбывались вражеские пулемёты, сухо трещали винтовочные залпы. Грудью раздвигая снег, наша рота продвигается к немцам. Но соседние наши роты отстали. Оказывается, там выбыли командиры. И наш командир роты Сайганов возглавил командование и остальными подразделениями. Ободрённые словами командира, увлечённые его порывом и бесстрашием, бойцы ринулись вперёд, ломая сопротивление гитлеровцев. Холстниково стало нашим. Немчура спешно откатилась назад, бросив технику и вооружение. Наш батальон, преследуя врага, продолжал наступать в цепи, но, пройдя метров 600-700 со скатов высоты 175,5, что за рекой Вельгой, встретил сильный огонь противника. Артиллерия и миномёты противника вели по нам губительный огонь из деревни Крюково. Наши ряды ещё больше поредели, и мы вынуждены были остановиться, не доходя реки Вельги, прикрывшись редким лесом.
«2-й батальон, встретив ураганный огонь с высоты 205,4 и оставив на поле боя много убитых, отошёл на исходное положение. На поле боя остались дымить несколько наших подбитых танков. 3-й батальон, находясь в готовности развить успех 2-го батальона, оставался на своём месте в районе кирпичного завода». (Арх. МО СССР, ф. 35-я ОСБр, оп.1, дело 2. лист 29.)
24 декабря мы снова пытались атаковать оборону противника с танками 1-й гвардейской армии [бригады — прим.Авт] генерала Катукова. При подходе к реке Вельга танки не смогли преодолеть крутые берега. Наша пехота была высажена с танков и пошла в атаку без них, навязав противнику рукопашный бой, но была контратакована дополнительными силами противника из глубины его обороны. Наши танки были обстреляны сильным огнём противотанковой артиллерии и, остановив у реки несколько танков, отошли назад. Оставшись без танковой поддержки, мы по приказу командования также отошли на свои исходные позиции.
Бойцы 2-го и 3-го батальонов также были посажены на танки. Десантами руководили во 2-ом батальоне заместитель командира батальона (фамилия неразборчива), а в 3-м батальоне начальник штаба батальона Истомин. Стремительной атакой они овладели 1 и 2 траншеями противника и завязали бой за деревню Пагубино. Несколько дней они вели бой за эту мало приметную деревушку, имеющую в то время на нашем направлении важное значение, но так и не имели успеха. В этом бою погибло много наших бойцов и командиров. В ротах батальона осталось не более (50-ти? неразборчиво) активных штыков. Погиб и командир десанта Алексей Васильевич Истомин. Сейчас на том месте стоит памятник погибшим воинам. Противник контратаковал подразделения 2-го и 3-го батальонов крупными силами, и они так и отошли на свои исходные позиции.
С 25 декабря на правом крыле Западного фронта, где находилась и наша бригада, наступила оперативная пауза. И, как считают историки, на этом закончился 1-ый этап Московского контрнаступления, в ходе которого враг был отброшен от Москвы на нашем направлении на 90-100 километров. Непосредственная угроза Москве с северо-запада была ликвидирована. Но мы все знали, что враг ещё силён и, как говорили пленные немцы, на этих высотах они решили только перезимовать, а весной снова повторить свой коварный замысел по захвату Москвы. Таков был приказ их вождя Гитлера.
Таким образом, фашистский план захвата Москвы «Тайфун» был потушен, но его извержение продолжало ещё тлеть. Чтобы окончательно его потушить, надо было основательно подготовиться ко 2-му решающему контрнаступлению. А в первую очередь, самим хорошо закрепиться, зарыться глубоко в землю, чтобы враг не смог нас нечем выкурить и выбить. И все мы принялись за своё дело. Пехотинцы рыли промёрзшую, как камень, землю, сапёры минировали, связисты налаживали надёжную связь, артиллеристы также врывались в землю и готовили огонь по огневым точкам врага, разведчики совершали поиски по захвату «языков» и выявляли в обороне противника новые огневые точки, одним словом, каждый делал своё трудное фронтовое дело.
Здесь я стал связным между командиром нашего, т. е. 1-го батальона и командиром нашей 1-ой роты. Связной такого звена должен обладать многими положительными качествами. Он должен быть физически развит, хорошо уметь ориентироваться на местности и определять место нахождения роты и батальона по карте, обладать хорошей памятью, так как приказы передаются в основном устно и надо запоминать всё до слова, а также другими положительными качествами. Так мне говорил начальник нашего батальона С.А. Ржечицкий, и мне было приятно слушать от него такие слова, что мне доверяют такую фронтовую ответственную работу. Необходимость находиться ближе к командирам постоянно давала мне возможность перенять их опыт, в результате чего одним из первых бывших курсантов-ленинцев скоро я стал командиром взвода.
Враг впереди нас расположился на высотах, одна из них называлась Лудина Гора по одноимённому названию села. Лудину Гору и прилегающие к ней высоты по инженерным сооружениям и организации системы огня немцы считали неприступными. Немецкий полковник, руководивший обороной в этом месте, в своём донесении писал: «Лудина Гора и прилегающие к ней высоты неприступны. Обход их невозможен, так как всю окружающую местность мы держим под надёжным огнём. Гарнизон неплохо просидит зиму в своих укреплениях».
12 января наша бригада вместе с другими частями правого крыла Западного фронта получила задачу окончательно разделаться с Лудиными высотами и во взаимодействии с группой генерала Короля, в которую входили 331-я стрелковая дивизия, 40-я стрелковая бригада, наступающие правее от нас, а также 28-я стрелковая бригада – слева от нас, уничтожить группировку противника и в дальнейшем наступать в направлении Шаховской.
1-ый батальон под командованием капитана Зиновьева получил задачу наступать на юго-западную окраину Крюково, высота 175, 5 и далее на Стремоухово.
2-ой батальон под командованием капитана Шамшурина должен был наступать на Пагубино, овладев им, наступать на Грядки.
3-ий батальон под командованием майора Билютина имел задачу вместе с соседом справа – 1105 стрелковым полком 331-ой стрелковой дивизии – овладеть селом Лудина Гора, наступая на высоту 206,3 (Лудина Гора) с юго-востока, и в дальнейшем наступать в направлении на Лихачёво.
Впереди нас продолжают оборонять части 23-й, 106-й пехотных и 6-й танковой дивизий. (ЦАМО, «Боевой путь 35 ОСБр», оп.1, дело 2, лист 65-73.)
По тщательно разработанному плану нашего командования мы произвели несколько ложных атак, чтобы выявить новые огневые точки противника и ввести его в заблуждение.
Настало время наступления. Наша артиллерия открыла огонь по обороне врага. После артиллерийской подготовки перешли в наступление и наши подразделения. С вечера снова поднялась метель. Она в последние дни почти не затихала. Бойцы боком, прикрывая лицо рукавицей от обжигающего ветра со снегом медленно двигаются вперёд. До противника несколько сот метров, и огня он пока не ведёт, он загнан нашей артиллерией в укрытия. Наши бойцы сосредотачиваются в оврагах и над обрывом реки Вельги. До противника осталось не более 200 метров.
И вот застланное метелью небо прорезают красные ракеты, это сигнал атаки наших подразделений. Я нахожусь с командиром роты. Командир батальона приказал мне находиться при нём, пока не займут парную траншею противника, куда потом перейдёт наблюдательный пункт комбата, к которому я присоединюсь. Связь пока проводная, и рация работает бесперебойно.
После сигнала красной ракеты первым поднимается в атаку командир роты Сайганов, который как всегда находится непосредственно в боевых порядках роты. И со словами: «За Родину! За Сталина! Вперёд!», стреляя из автомата, выскочил впереди боевых порядков роты, увлекая за собой бойцов. Они, обгоняя командира роты, все как один дружно ринулись на врага, скользя и падая, ведь фашисты облили все скаты высот с нашей стороны водой, превратив их в ледяной панцирь. Но ничто не может удержать наших бойцов, падающих подхватывают сильные руки рядом идущих товарищей, и все вместе продолжают атаковать противника. Казалось, земля дрожит от взрывов, грохота, ржания лошадей, притащивших пушки-сорокопятки. Ведь поднялись на штурм Лудиных высот четыре соединения, почти доукомплектованных до штата за счёт нового пополнения.
Немцы осветили передний край ракетами и, хотя была метель, видно стало хорошо. Наша артиллерия перенесла огонь по второй траншее врага. Фашисты открыли ружейно-пулемётный огонь, но ненадолго, так как первые наши бойцы, ворвавшиеся в траншеи врага, сцепились врукопашную, а немцы её не особенно принимали, поэтому, стараясь уклоняться от рукопашной, убежали в глубь своей обороны. Но наши бойцы по ходам сообщений настигли их и навязали им рукопашную. Теперь не было слышно ни призывных лозунгов, ни приказов командиров, только страшные ругательства наших бойцов, от которых содрогался морозный воздух. Гром артиллерии, пулемётная и ружейная стрельба, крик, ругань, стон раненых, ржание лошадей, всё слилось воедино…
Командир роты говорит мне, чтобы я выбрал блиндаж для штаба батальона, якобы, звонил начальник батальона. Я забегаю в один из блиндажей. Здесь, как в хорошей квартире. Печь жарко натоплена. На стенах и на полу ковры, награбленные у наших советских граждан. Накатов не сосчитать. Видно, в самом деле немцы готовились и рассчитывали здесь зимовать, но выкурили мы их из берлог. Но пока только в первой траншее. Наши бойцы повели затем ожесточённый бой и за вторую траншею. Немцы бегут на Подсадниково, а многие отходят на Лудину Гору. С ними ведёт бой наш 3-й батальон и полк 331-й стрелковой дивизии. Остальные части 331 стрелковой дивизии обходят Лудину Гору с северо-востока.
Ночью с 13-го на 14-е января наш батальон, обойдя Крюково и Терентьево, жал гитлеровцев на южных скатах Лудиной Горы, затем вышел к железной дороге, соединявшей станции Волоколамск и Шаховская, и завязал упорный бой в селе Посадники. Здесь мы должны были соединиться с подразделениями 331-ой стрелковой дивизии, обходящей Лудину Гору с северо-востока. Противник разгадал наш замысел, зажёг село Лудина Гора и выскользнул в оставшуюся брешь.
Так, 15 января 1942 года пал один из крупных оборонительных пунктов противника Лудина Гора недалеко от Волоколамска. Почти 5 суток шли упорные бои за эти высоты. Немцы потеряли здесь около 1500 человек убитыми. Несколько сот было взято в плен, захвачены большие трофеи. Также в это время были освобождены Пагубино и Сафатово. Газета «Красная звезда» за №57 от 10 марта 1942 года широко популяризировала этот опыт. Его мы применяли потом не раз в дальнейших боях.
С падением Лудиной Горы и прилегающих высот немцы на нашем направлении стали повсеместно отступать под нашим мощным натиском.
В сущности, это было не отступление, а повальное паническое бегство.
Мы получили приказ наступать в направлении города Гжатска.
18 января на рубеже села Чернево встретили сильное огневое сопротивление гитлеровцев. Село находилось на высоте, которая была сильно укреплена фашистами. Оборонялся здесь усиленный пехотный батальон с танками. Два дня части вели бои за овладение высотой и селом Чернево. 20 января под покровом ночи, совершая выгодный маневр, учитывая опыт боёв за Лудину Гору, в результате ночной атаки мы овладели и этим опорным пунктом немцев. (ЦАМО, ф.1830, оп.1, дело 7, лист 86.)

В этом бою отличился начальник штаба нашего батальона старший лейтенант Ржечицкий С.А. Я как связной был в это время рядом с ним и хорошо запомнил этот эпизод. Об этом и о других боевых эпизодах мы вспоминали с генерал-лейтенантом Ржечицким во время встречи в Солнечногорске в мае 1980 года.
Когда бойцы батальона, выйдя из леса, пошли в направлении села Клетки, чтобы обойти противника, обороняющегося в Чернево, они были обстреляны фланговым огнём из Чернево из всех видов оружия. Огонь был губительный, и бойцы 1-й роты, находящиеся в голове колонны батальона, рассыпались в цепь и залегли. Ржечицкий со штабом и нами, связными, находился в это время с 1-ой ротой. Он знал, что такие действия были смерти подобны, так как фланг был подставлен под губительный огонь врага. С автоматом в руках он выскочил впереди лежавших бойцов и, увлекая их за собой, повёл в атаку. Увлёкшись атакой, он был ранен пулей врага в грудь. После месячного лечения он вернулся в свою часть и стал командовать отдельным миномётным батальоном. Пошёл на повышение, так как в училище он командовал миномётным взводом.
23 января с боем овладели крупным населённым пунктом Середа, связывающим шоссейной дорогой Шаховскую и Уваровку.
Отсюда вместе с конниками 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, которым после гибели Доватора командовал А. И. Плиев, мы ещё быстрее устремились на запад, полностью освободили в этом районе Московскую область и вступили на землю Смоленщины.
27 января, не доходя 15-ти километров до Гжатска, мы были встречены организованной обороной противника на рубеже Большие Триселы – Быково. Разгорелось ожесточённое сражение по прорыву обороны противника. Больше месяца вели мы упорные бои на этих рубежах с намного превосходящими нас силами противника. В одном из тяжёлых боёв я прибежал к командиру роты с боевым распоряжением от командира батальона, так как проводная связь у нас была кругом перебита артиллерией противника и все распоряжения от комбата ротным передавались только через связных. Здорово тогда досталось в этих боях и нам, связным. Под сильным огнём противника, рискуя жизнью, больше ползком приходилось передавать приказы комбата ротному.
В одном из самых тяжёлых боёв я подползаю к командиру роты, им стал наш командир взвода лейтенант Храпов. Сайганов был тяжело ранен и отправлен в медсанбат. Бойцов в роте оставалось мало, почти не осталось командиров. В такой тяжёлой обстановке Храпов встретил меня не спокойно как обычно, а со злостью. Отвечая на распоряжение командира батальона, сказал: «Куда наступать? С кем наступать? В роте побиты почти все командиры. Совсем мало осталось бойцов. Принимай лучше первый взвод. Зачем тебя учили в училище? А связного я пошлю другого». Как будто я был виноват, злился на всех и на всё в то время ротный.
Так я стал командовать стрелковым взводом. К этим обязанностям я был готов. Правда, вначале взвод был маленький, всего 7 человек, это практически неполное отделение. Но пока это был взвод, и я считался командиром взвода, хотя на курсантской петлице пока не было ещё даже ни одного сержантского треугольника. Всех бойцов во взводе я хорошо знал, и воевать с ними мне было легче.
Ряды наши совсем поредели. В каждой роте оставалось по 10 – 17 активных штыков. Из-за весенней распутицы почти совсем прекратился подвоз боеприпасов, продовольствия, перевязочного материала, медикаментов – всего того, что необходимо на фронте. Чтобы не быть голодными, ели конину, которой было много в лесу, так как в кавалерийском корпусе Плиева было много погибших лошадей. Всюду по лесу раздавался стук топоров, это бойцы отрубали куски мяса от замерзших тел убитых лошадей и варили их тут же на кострах в котелках или коробках от немецких пулемётных лент.
Переутомлённым и ослабленным войскам Западного и Калининского фронтов становилось с каждым днём всё труднее и труднее преодолевать сопротивление врага, и в начале апреля 1942 года нам было приказано перейти на этом рубеже к активной обороне.
В нашем батальоне от 500-сот с лишним курсантов, начавших воевать под Москвой, осталось 17 человек. Семи курсантам, которые командовали взводами, в том числе и мне, было присвоено воинское звание младших лейтенантов, 10 человек было отправлено на курсы младших лейтенантов.
Первый кубик среднего командира мы прицепили к курсантской петлице, так как с курсантской формой не расставались до самого Берлина. Мы дорожили ей, как моряки дорожат своими бушлатами и бескозырками, хотя и предлагали нам во время боёв новые шинели и ботинки с обмотками.
В ходе 2-го этапа московского наступления наши войска продвинулись на запад ещё на 70-100 километров и закрепили успех московской операции.
«35-я отдельная стрелковая бригада получила новое пополнение, прибывшее с Дальнего Востока и с Горьковской области, а также получила приказ занять оборону и приступить к строительству инженерных оборонительных сооружений на рубеже:
1-й стрелковый батальон – лес северо-восточнее Больших Трисел. Граница справа – озеро Шараповское, слева – сёла Яковлево и Сапегино;
2-й батальон – исключительно Хрены. Граница справа – Яковлево, слева – Вельмеж (искл.);
3-й батальон – Вельмеж – Ратьково». (ЦАМО, 35 ОСБр, оп.1, дело 14, лист 1.)
С выходом на оборонительные позиции мне было приказано со своим взводом выйти на боевую охрану от 1-го стрелкового батальона, находясь непосредственно в оперативном подчинении командира батальона. Передо мной стояла большая и ответственная задача: выйдя впереди боевых порядков батальона на расстоянии 1-го километра и находясь в непосредственной близости от среднего края обороны противника, заняв там оборону и оборудовав позиции, в случае наступления противника, командуя взводом, задержать его, тем самым дав возможность и время развернуться и подготовиться к бою основным силам батальона.
Во взводе у меня стало 18 человек, а с приданными, расчётом сорокопятки и станкового пулемёта – 25 человек. Это уже по тому времени сила, которая способна была справиться с поставленной задачей. Всю весну и лето я со взводом простоял в боевом охранении. Несколько раз фашисты пробовали атаковать наши боевые порядки, но каждый раз мы срывали наступление немцев, и они ограничивались только боем с моим боевым охранением.
Во время нахождения в охранении было много разных коварных эпизодов. Один мне запомнился особенно. Это было ещё весной. Недалеко впереди нас, шурша верхушками деревьев, упал подбитый немцами наш штурмовик. Я с ординарцем Ворониным, оставив за себя помощника, решил пойти к самолёту в надежде помочь нашему лётчику, если он окажется живым, или принести его убитым. Прошли мы по нейтралке метров 100, перед нами открылась полянка, на которой, вытянувшись носом, торчал штурмовик. Не доходя до самолёта, мы увидели, что на сучке дерева висит бутылка с ромом, а над ней надпись: «Выпейте немецкий ром за великую Германскую империю и переходите к нам в плен. Гарантирую жизнь и возвращение после войны на Родину. Немецкий комендант». Мы сняли бутылку с сучка, на обратной стороне записки написали отрицательное нецензурное слово и повесили на сучок, а сами пошли к самолёту. Лётчика в кабине не оказалось, он выпрыгнул с парашютом раньше и вышел через боевые порядки нашего правого взвода, как мы узнали позже. С трудом вытащили кусками лобовое стекло (плексиглаз), из которого мой боец мог хорошо делать портсигары, мундштуки, набор для ножа и ручки и др.
Осмотревшись кругом, ползком двинулись через поляну в своё расположение. И вдруг на нашей стороне опушки леса, на кромке поляны, слышим строгий принудительный окрик немецкого офицера: «Хальт! Хальт! Хенде хох!» И так несколько раз, заставляя нас встать и сдаться в плен. Ясно, немецкая засада, опередившая нас с приходом к самолёту, так как их оборона была ближе к нему. Мы с Ворониным поползли по болоту вдоль фронта к противоположному рву, который проходил вдоль дороги на Триселы, левее нашего охранения, в надежде, укрывшись рвом, отстреливаться и по нему уйти к своим. Слышим, как шуршат ветки и кусты, по которым немцы нас преследуют, сами боясь выйти на поляну, так как мы оба вооружены – я автоматом, Воронин — винтовкой. Не доползая метров 50-ти до рва, видим, что болото с высокой осокой кончается и впереди – открытая местность. Мы выскакиваем и что есть силы бежим в ров. Фашисты открыли по нам огонь. Но бьют по низу, стараются попасть по ногам, чтобы ранить нас и взять в плен. Мы скатываемся в ров и по нему быстро бежим к своим. Фашисты где-то отстали. Стрелять нам в то время не было возможности, так как немцы были в кустах, а также, потому что, как только бы мы взяли в боевую готовность оружие, они могли бы нас пристрелить на месте, чтобы самим не быть убитыми и ранеными. Потому мы и пошли на такую хитрость, благодаря которой и остались живыми. Выйдя из рва напротив своего охранения, видим, что нам навстречу бегут разведчики во главе с Сидоренко, которые, узнав, что мы пошли к самолёту, и, услышав выстрелы, поспешили к нам на выручку. Воронин сохранил бутылку с ромом, которую и опорожнил санинструктор разведчиков со словами: «Я доктор, мне можно, а вы можете отравиться».
Полез я карман, чтобы достать табакерку из оружейной маслёнки, а в кармане – кровь. Оказалось, немецкая пуля прошла по карману моих большекарманных галифе и чуть коснулась ноги. Если бы чуть глубже, не знаю, чем бы это могло кончиться. Не дай бог, попал бы в плен, чего я больше всего боялся на войне, зная, как они расправляются с советскими офицерами, тем более с коммунистами.
Много было каверзных случаев, когда мы находились в обороне под Гжатском. Жаль, что в таком коротком очерке обо всём рассказать нет возможности.
За этот случай мне здорово досталось от комбата за то, что я сам пошёл к самолёту. Скоро мне было присвоено звание лейтенант, а к осени я был уже старшим лейтенантом.
Осенью 1942 года на линию моего охранения были выдвинуты все подразделения батальона, и мы приступили к строительству мощных оборонительных сооружений в лесу. Сделали такую крепкую оборону с хорошо организованным огнём, что не было такой обороны даже нигде на сухом месте. Оборона моего взвода была признана самой лучшей, и я вместе с командиром моего отделения сержантом Карасёвым за это был награждён командиром бригады хромовыми сапогами. Очень жаль, что такой хороший человек и командир скоро погиб здесь в одном из оборонительных боёв.
Не один раз ходили мы с ротой в разведку боем с задачей выяснить систему обороны и огня противника и взять контрольных пленных и всегда с этой задачей справлялись успешно. Правда, в одной из таких разведок нам не повезло. Наши сапёры сделали проходы в проволочном ограждении и минном поле противника и, казалось, неплохо. Хорошо была подготовлена и сама операция, хотя она и организовывалась на другом участке, почти незнакомом для нас. И вот, когда на рассвете, преодолев проходы, мы ринулись на противника, наткнулись на вражеский электропровод с током высокого напряжения, который проходил в непосредственной близости от переднего края противника. Он лежал на земле, наши сапёры его не обезвредили, так как до него невозможно было дойти, иначе противник сразу же их обнаружил бы. А когда мы пошли в атаку, специальные немецкие службы его приподняли, и на нём погибло много наших бойцов, особенно во взводе Сундова, который был в группе захвата и следовал первым. После этого противник открыл сильный огонь из миномётов и артиллерии по опушке леса, куда мы отошли. Здесь погибло много бойцов и из других наших взводов, в том числе и в моём взводе…
Во время оборонительных боёв под Гжатском особенно много доставалось нашим разведчикам, которые и днём и ночью вели разведку, при исполнении каждого задания теряя многих своих бойцов. Особенно хорошо действовали разведчики бывшего курсанта-ленинца Александра Сидоренко.

Здесь, в обороне, в бригаде был сформирован 4-ый стрелковый батальон, командовать которым стал бывший командир пулемётного взвода, а потом и роты, ст. лейтенант Сафонов Сергей Сергеевич, проявивший мужество, хорошие организаторские способности как в наступлении, так и в обороне. Лейтенант Сидоренко командовал теперь взводом пешей разведки в его батальоне и всегда, будучи одним из лучших разведчиков, с честью справлялся с заданиями. Он первым в бригаде и даже в армии стал брать «языка» не ночью, а только днём, считая, что ночью посты в фашистской обороне, да и у нас также несут службу бдительнее, и его предположения успешно осуществлялись. Он брал «языка» почти всегда, когда тот был необходим командованию, за что был одним из первых в бригаде награждён орденом «Отечественной войны», а позже орденом «Александра Невского».
К весне 1943 года нашего командира роты капитана Храпова перевели в другую часть на должность командира стрелкового батальона, меня назначили командиром 1-й стрелковой роты. Перевели в другую часть и нашего командира батальона майора Карнаухова, который был комбатом после Зиновьева, последний также пошёл на повышение, как и Зиновьев. Командиром батальона стал старший лейтенант Дрозжин, бывший начальник штаба батальона.
Когда я принял роту, меня вывели во второй эшелон батальона на рубеж села Берёзки, где находился штаб нашего батальона. Бригадой командовал полковник Г. Г. Руссков. После полковника Будыхина, которого с приходом под Гжатск отозвали в Москву, бригадой командовали полковник Масленников, генерал А. Пронин и вот теперь Руссков.
Комиссаром бригады после батальонного комиссара Фролова стал Колесников И. О., после него – Павленко Е. К., начальником политотдела – Смелянский.
3 марта 1943 года вслед за Брянским и Центральным фронтами тронулся и наш Западный фронт.
3 марта в тяжёлом бою освободили сёла Быково, Большие Триселы и пошли в направлении Тялино. 5-го марта некоторые части армии вышли к Гжатску, но, встретив упорное сопротивление на реке Гжать, остановились.
35-я ОСБр вместе с 153-й танковой бригадой была поставлена задача, оставляя передовой отряд, обойти Гжатск с северо-запада. Наш батальон находился в авангарде бригады. Подойдя к деревне Синичкино, остановились в лесу и пропустили впереди себя 4-й батальон нашей бригады, который был сформирован в обороне под Гжатском, командовал батальоном Сафонов С.С. Как только скрылся хвост 4-го батальона, двинулся и наш батальон, а за нами все части бригады. Я со своей ротой оказался в голове колонны. Со стороны Прилепово-Никольское противник по нам открыл огонь. Танки с частью наших подразделений пошли в атаку на Прилепово, а нашему батальону было приказано повернуть на Клушино, где вёл бой с заслоном противника 4-й батальон.
Мы видим, как горят дома в Прилепово, Никольском, появился огонь и в Клушино. Противник, отступая, сжигает дома и жителей этих деревень.
При входе в село Клушино на дороге увидели на шестах табличку с коряво написанными словами: «Астарожно мины».
Свернув с дороги, мы пошли по сугробу, не успевшему растаять в первые весенние дни марта. Как потом выяснилось, таблички эти поставил Алексей Иванович Гагарин, а писал – Юрий Гагарин, будущий первый космонавт и его отец. На митинге, состоявшемся в посёлке Клушино, наш комбриг полковник Руссков подарил Алексею Ивановичу новенькие яловые сапоги и сказал: «Спасибо Вам, Алексей Иванович, за то, что Вы своими патриотическими действиями спасли жизни многим нашим бойцам!»
Так, 5-го марта 1943 года мы освободили Клушино, родное село первого космонавта, жителей этого села, в том числе и всю семью Юрия Алексеевича и его самого.
После войны я бывал в этих местах, посетил музей Ю. А. Гагарина в Клушино и в городе Гагарин, бывшем Гжатске. Многое мы вспоминали о тех страшных днях войны с матерью Юрия Алексеевича Анной Тимофеевной. Она была рада с нами встретиться, со своими освободителями, и мы на память сфотографировались с ней в её доме, где она жила в последнее время в городе Гагарин. На добрую память она подарила мне книгу «Мой брат Юрий» с автографом, которую написал брат Юрия Алексеевича Валентин Алексеевич. А потом, незадолго до своей смерти, она прислала мне свою книгу с автографом «Слово о сыне».
6 марта в 3 часа ночи наша бригада атаковала вражеские позиции северо-западнее Гжатска, тем самым способствовала освобождению города, и 6 марта он был полностью очищен от фашистской нечисти.
После освобождения Гжатска наш путь лежал на Вязьму. И опять шли бои за каждое село. Всюду приходилось видеть следы зверства и насилия фашистских извергов.
Перед Вязьмой наша бригада вместе с другими частями армии была выведена из боёв в резерв командующего 5-ой армией. Проходим в колоннах Вязьму, которую освободили войска нашей 5-ой армии 12 марта 1943 года. Вязьму постигла такая же участь, как и Гжатск. Весь город виден насквозь. Всё разрушено и уничтожено.
13 марта, ночью, наша бригада сменила 49-ю бригаду, которая вела упорные наступательные бои в направлении деревни Гонки. Наступила распутица. Ночью подмораживало, а днём раскисала земля со снегом. Утопая в грязи, мы вели бой за Гонки. В ожесточённом бою выбиваем фашистов из деревни.
После этого боя 2-ой батальон был посажен на танки и, обходя Сенную, завязал бой с отступающим противником, который не хотел сдаваться, когда отрезали ему путь к отступлению, дрались противники отчаянно. Много погибло в этом бою фашистов, много было взято пленных и трофеев, и наших воинов погибло здесь очень много.
Всё ближе и ближе мы подходим к главному оборонительному рубежу противника. 18 марта с большим трудом освобождаем сёла Памятка, Подмошье. Бойцы 2-го стрелкового батальона под командованием своего бесстрашного командира Ржечицкого (он теперь командовал 2-м батальоном) с ходу на танках ворвались на восточную окраину села Ураново.
23 марта мы подошли к восточному берегу ручья Брянки и повели упорный бой за Чертищево и Курность, где противник закрепился на господствующих высотах. Здесь проходила его главная оборона. Впереди нас был город Ельня. Обороне города противник придавал особое значение, считая Ельню ключом к Смоленску. До Ельни оставалось 40 километров.
Советское командование временно приостановило активные действия на этом направлении, чтобы произвести перегруппировку, подтянуть тылы. Подготовка к новому наступлению продолжалась до августа 1943 года.
Наша бригада в результате сложившейся обстановки находилась на оселке этого направления. Перед нами стояла задача в ходе подготовки к решительному наступлению на некоторых направлениях улучшить свои позиции, захватив при этом у противника ряд господствующих высот, этим подготовить удобный плацдарм для наступления и в то же время укрепиться на достигнутых рубежах, врыться в землю и оборудовать совершенные инженерные оборонительные сооружения, не дав противнику вернуть их снова, особенно высоту 206, 8 (? неразборчиво), которую оборонял наш батальон. Моя рота была на самом ответственном участке, от удержания которого зависел успех действий всего батальона и бригады в целом. Противник несколько раз пытался сбить нас с этой высоты, предпринимая контратаки с танками, но каждый раз мы их успешно отбивали.
За время наступательных боёв мы прошли несколько сот километров, окончательно отогнав гитлеровцев от Москвы. Освободили города Солнечногорск, Волоколамск, Гжатск, Вязьму и тысячи сёл и деревень Московской и Смоленской области. Вызволили из неволи тысячи советских граждан, которых гитлеровцы пытались угнать в Германию и превратить там в своих рабов.
У некоторых наших офицеров были карты, на которые мы наносили свой боевой путь. И вот смотрю на карту и сам удивляюсь, какой большой и трудный путь мы прошли. Маленькой точкой отметил своё месторасположение недалеко от Ельни. Только там, под Москвой и под Волоколамском, мы копали для обороны мёрзлую как камень землю. Под Гжатском сооружали оборонительные позиции из деревьев, так как оборона нашего батальона проходила в лесу, а теперь закрепляемся в глинистой, расквашенной весной почве, делая свою оборону, как и на тех рубежах, неприступной для врага.

Здесь, на оборонительных рубежах, также отличились многие наши воины, а особенно разведчики, и в их числе мой друг по училищу и боям Александр Сидоренко. Командуя в это время взводом разведки в 4-ом батальоне нашей бригады, он со взводом разведки ночью пробрался в тыл противника, оборонявшего высоту, которой 4-му батальону нужно было овладеть для улучшения своих боевых позиций, и сделал в стане врага переполох: привлёк на себя силы врага, находясь несколько минут под огнём своей артиллерии, а в это время стрелковые роты батальона успешно атаковали врага и заняли высоту, улучшив свои позиции.
В середине июня 1943 года из 35-ой отдельной стрелковой бригады и 49-ой отдельной стрелковой бригады была сформирована 208-я стрелковая дивизия.
С этого времени 35-я стрелковая бригада как отдельная боевая единица существовать перестала, но её боевые дела продолжались в боевых подвигах воинов 35-ой в составе 208-ой стрелковой дивизии и в других частях и соединениях, куда попали воины после ранений, перевода в другие части или после окончания учебных заведений.
Человеческие судьбы
Как же сложились судьбы воинов 35-ой отдельной стрелковой бригады до конца войны и после её окончания? О некоторых из них я коротко расскажу в этой главе.
Многие воины 35-ой продолжили свой боевой путь в составе 208-ой стрелковой дивизии, в которую они попали во время реорганизации.
В основном они вошли в состав 435-го стрелкового полка 208-ой стрелковой дивизии, командовать которым стал бывший командир 1-го батальона 35-ой ОСБр Карнаухов Андрей Георгиевич (командовал батальоном в 35-ой во время обороны под Гжатском зимой 42-43-го). Воины 35-ой также вошли в состав отдельных спец. частей дивизии и в состав артиллерийских и миномётных частей.
208-я стрелковая дивизия формировалась в Семлевском районе Смоленской области. Первым командиром дивизии был полковник Сувырин Николай Акимович.
208-я стрелковая дивизия прошла большой славный путь. Воины дивизии способствовали освобождению города Смоленска в составе 10-й Гвардейской армии. Дивизия принимала участие в освобождении Латвии, Литвы, Польши, штурмовала Кёнигсберг, после чего воины дивизии вышли к Балтийскому морю, где и встретили День Победы.
208-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а также ей было присвоено почётное наименование Кёнигсбергская. Вместе с дивизией до конца войны прошли и бывшие воины 35-ой.

Бывший воспитанник Московского военно-политического училища им. В. И. Ленина, политрук взвода нашей разведки, потом политрук роты разведки бригады Валентин Яковлевич Щукин вырос от политрука до помощника начальника политотдела по комсомолу дивизии, а к концу войны – корпуса. Был награждён за мужество и боевые подвиги многими орденами и медалями. Стал полковником. После войны работал на ответственных должностях. После окончания военно-дипломатической академии служил с 1959 года в Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР. В последующие годы работал в управлении международных сообщений МПС. С 1963 года работал в Госкомитете СССР по науке и технике заместителем начальника управления научно-технического сотрудничества с социалистическими странами. По долгу службы много раз бывал за границей.
Лейтенант Беспалов и сержант Берёзкин, совершившие подвиг в боях за Кёнигсберг, стали Героями Советского Союза.
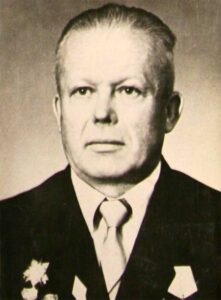
Отважно дрались в 208-й дивизии курсанты-ленинцы 35-й А. Клишин, В. Кияченко, Ф. Теплов и другие.
Большой путь в составе 208-й прошёл С.А. Ржечицкий, командуя батальоном, а после окончания Академии Генерального штаба им. К. Е. Ворошилова был направлен в другую дивизию на должность командира полка. Участвовал в освобождении Варшавы и штурме Берлина. После войны командовал дивизией, корпусом. Стал генералом-лейтенантом. В последнее время работал старшим преподавателем в Академии Генерального штаба. Награждён многими советскими и зарубежными орденами и медалями.

А. С. Титеев и С. Т. Платоненков в боях под Гжатском зимой 1942-го были направлены в 64-ю морскую бригаду, на базе которой впоследствии была сформирована 82-я стрелковая дивизия, воевавшая рядом с 35-й ОСБр. Оба были много раз ранены. Войну закончили: Титеев в Восточной Пруссии, в Пилау, а Платоненков – в Берлине. Награждены многими орденами и медалями.
М. П. Смелянский, бывший начальник политотдела бригады и 207-й стрелковой дивизии, войну закончил в Берлине. Награждён многими орденами и медалями.

Бывший комиссар 35-й стрелковой бригады И. О. Колесников, выбывший из бригады в июне 1942 года на должность командира 37-го стрелкового полка 12-й гвардейской дивизии, проявил там самые лучшие боевые качества умелого и опытного командира. За форсирование Днепра и улучшение плацдарма ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1953-го по 1972-ой год генерал-лейтенант И. О. Колесников занимал почётную и ответственную должность коменданта города Москва.
Прокопенко Герасим Андрианович — бывший начальник разведки бригады, а потом начальник оперативного отдела бригады. В июне 1942-го года был переведён на должность начальника оперативного отдела 20-й армии. Войну закончил начальником штаба дивизии в звании полковника. После войны преподавал в Академии Генерального штаба. Сейчас – генерал-майор живёт в Москве, находится в отставке.

Билютин Кондрат Васильевич — бывший командир 3-го стрелкового батальона 35-й ОСБр с начала формирования бригады до июня 1942 года. В обороне под Гжатском был ранен и после излечения попал на Украинский фронт, командовал 78-м гвардейским полком. В начале марта 1943 года под селом Тарановка Харьковской области с полком совершил подвиг, повторив подвиг панфиловцев под Москвой, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в некоторых городах нашей страны, а также корабль, построенный на судоверфи города Николаева.
Много героических подвигов совершили бывшие воины 35-й, в том числе и курсанты-ленинцы. И у всех интересная и героическая судьба. Не исключение и Александр Сидоренко. Мой боевой друг и товарищ, которого я знал особо хорошо и с кем дружу до сегодняшнего дня. О нём мне хочется рассказать подробнее.

Александр Григорьевич Сидоренко – о нём по праву можно сказать, что он почти всю войну был в разведке, даже тогда, когда по состоянию здоровья в ней находиться было нельзя.
Когда 35-я влилась в состав 208-й стрелковой дивизии, Александр Сидоренко продолжал командовать взводом разведки в 435-м стрелковом полку дивизии. В августовских наступательных боях 1943 года под Ельней старшему лейтенанту Сидоренко командиром полка Карнауховым было приказано организовать поиск с задачей добыть более конкретные сведения о противнике. Для этого нужен был особо ценный «язык» из числа офицеров, лучше штабных. Перед рассветом 13 августа разведчики выползли к переднему краю противника и внезапно отчаянно его атаковали, навязав ему рукопашный бой. Вдруг А. Сидоренко заметил, как вперёд выскочил офицер и стал руководить боем, на него и направил свою группу захвата Александр Сидоренко, возглавив её сам. Фашистский офицер также заметил нашего офицера, то есть Сидоренко, и бросил в него ручную гранату, осколками которой Сидоренко был ранен в голову, живот и левую руку. Долго потом Саша Сидоренко не мог себе простить, что позволил фашистскому офицеру опередить его.
С яростью и большим ожесточением, движимые чувством мести за своего командира, бросились разведчики на немецкого офицера, готовы были его разорвать, но вспомнили слова своего командира, что он нужен был командованию живой, скрутили ему руки и ноги, воткнули в рот кляп и поволокли в своё расположение.
Пленный немецкий офицер оказался ценным «языком» и дал очень подробные сведения о своей обороне, что способствовало успешному наступлению нашей части на данном направлении. Задачу разведчики А. Сидоренко выполнили хорошо. Командир похвалил всех и представил к награде, но вот для Сидоренко это задание оказалось роковым, чуть не приблизившим его к смерти.
Ранение было очень тяжёлым, особенно в голову. Пришёл Саша в сознание по-настоящему только в госпитале в городе Дербент, куда его привезли тяжело раненным. Несколько месяцев врачи госпиталя боролись за жизнь отважного разведчика. В ноябре месяце 1943 года в госпитале его комиссовали, признали инвалидом II группы и рекомендовали отправляться домой.
Вышел он из госпиталя с перевязанным левым глазом, задумался, сел на скамеечку, и в голову полезли разные мысли: «Неужели ты, разведчик Сидоренко, отвоевался? Такого не должно быть. Фашисты ещё не добиты. Их бьют мои боевые друзья на фронте, а я должен сидеть в тылу». Категорично он сказал себе: «Нет, такому не бывать! Мы ещё повоюем». И пошёл в штаб 18-й армии.
Несколько дней он обивал штабные пороги с просьбой, чтобы его направили на фронт и не куда-нибудь, а в разведку. Наконец добился приёма начальником разведки армии, и тот ему дал добро, направив пока на армейские курсы младших лейтенантов, чтобы он там как опытный разведчик готовил офицеров-разведчиков. Курсы находились всё время недалеко от нашего переднего края. В нашем тылу оставалось много недобитых фашистов, бандеровцев, бывших полицаев и разной другой нечисти, с которой вели борьбу будущие младшие лейтенанты, командиры взводов, в том числе и курсанты-разведчики под командованием Александра Сидоренко. Они разбили несколько групп бандитов под Бердичевым, Шепетовкой, Ровно, Кременец-Тернополем и Коломной.
Но каждую минуту Сидоренко мечтал о настоящем боевом деле разведчика.
Хотелось, как и прежде, ходить с разведчиками в поиск, заходить в тыл к фашистам и брать «языков», которых у него на счету было около тридцати, не считая групповых пленных, которых брали в общем бою. И, улучив каждую свободную минуту, когда штаб армии оказывался поблизости, он добивался встречи с начальником разведки армии, который его уже хорошо знал, и просил, чтобы его направили на передовую на должность командира разведчиков. После выпуска курсантов с курсов ему разрешили служить на передовой и командовать разведчиками. Его направили начальником разведки 361-го ордена Суворова, отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 159-го укрепрайона 18-й армии. С первых дней пребывания в этой части он проявил храбрость, умение организовывать и проводить разведку, используя свой богатый опыт разведчика.
До конца войны он продолжал воевать с одним глазом. Левый глаз был перевязан, он был выбит осколком фашистской гранаты. И сейчас, являясь инвалидом войны, он ходит с перевязанным глазом. Принимал участие в освобождении Украины, Польши. Закончил войну, встречая праздник Победы в Чехословакии.
И после войны, уволившись из армии в звании капитана в 1946 году, Александр Сидоренко оставался в строю. Много лет работал начальником штаба гражданской обороны Пскентского района Ташкентской области. Сейчас находится на пенсии по инвалидности, живёт в г. Ташкенте. Принимает активное участие в военно-патриотической работе.
Я совсем коротко описал судьбы некоторых бывших воинов 35-й ОСБр. О всех писать в моём небольшом очерке я не имею возможности, прошу за это простить меня моих боевых товарищей.
Теперь коротко о том, как сложилась моя судьба после пребывания в 35-й ОСБр. Как и всегда в длительной обороне, а особенно при реорганизации частей, которая коснулась и нашей бригады под Ельней, из частей понемногу перемещают офицерские кадры в другие части и соединения. Такая участь не миновала и меня. В апреле 1943 года меня вызвали в штаб нашей 5-й армии и стали уговаривать, чтобы я принял армейскую штрафную роту, которая только что была сформирована из осуждённых за различные провинности и из военнослужащих рядового и сержантского состава. Мне было тогда 20 лет, совсем молод для этого дела, и я попросился у начальника штаба армии быть пока заместителем командира штрафной роты. Нас было два заместителя по строевой, и я был назначен первым заместителем. Как правило, на командирские должности назначали не каждого, а тех, кто положительно показал себя в боях.
По положению о штрафных ротах, они воюют на самых опасных и тяжёлых участках как в обороне, так и в наступлении. На таком трудном участке 312 стрелковой дивизии, командиру которой наша рота оперативно подчинялась, были и мы, находясь в обороне под Дорогобужем. Со своими боевыми задачами мы, офицеры роты, справились добросовестно, в соответствии с требованиями уставов и положения о штрафных ротах. Через три месяца рота была расформирована, это срок, на который были осуждены штрафники. И нас, офицеров, отправили по линейным частям. Я с несколькими офицерами оставался в распоряжении командира 312-й стрелковой дивизии генерал-майора Моисеевского.
Я снова стал командовать стрелковой ротой в 1081 стрелковом полку этой дивизии. Участвовал в освобождении города Дорогобужа, Смоленска, за что дивизия получила наименование Смоленская. В активных боях за Смоленск был представлен к награждению орденом Красной Звезды, который получил сразу же после войны, так как скоро был ранен в районе Ситнянских озёр, куда мы были перемещены.
После лечения в госпитале был направлен на курсы командиров батальонов в город Вышний Волочек. После окончания курсов в июле 1944 года мне было присвоено звание капитан, и я был направлен в 37-ю стрелковую дивизию заместителем командира стрелкового батальона. В 247-м стрелковом полку этой дивизии был заместителем командира батальона, потом в 91-ом стрелковом полку стал командиром стрелкового батальона.
Принимал участие в боях в составе 2-го Прибалтийского фронта, 10 гвардейской армии, 37-й стрелковой дивизии в освобождении Латвийской ССР.
В боях под Добеле был снова ранен. За эти бои был награждён орденом Отечественной войны II степени. Член КПСС с 10.07.1942 года. Вступил в партию в оборонительных боях под Гжатском.
В начале апреля 1944 года наша дивизия была выведена из боёв, вошла в состав 22-й армии и срочно железнодорожными эшелонами была переброшена в Румынию. Остановились в 50-ти километрах юго-западнее Бухареста в королевском лесу. Вся 22-я армия находилась в то время в резерве Верховного Главного командования. Здесь, в Румынии, мы готовились к дальнейшим боям по завершению кровопролитной войны и помогли румынскому народу в строительстве новой жизни.
Но воевать нам больше не пришлось, и здесь, в королевском лесу, мы встретили радостный день Великой Победы.
Сорок с лишним лет, благодаря мудрой политике нашей партии и правительства, мы живём в мирной обстановке, но никогда не забыть нам того радостного дня 9 мая 1945 года. Первого дня мира после тяжёлой, кровопролитной войны.
Рано утром (ещё было темно) мне позвонил командир нашего полка (я командовал батальоном) полковник Тарабаев и сообщил о конце войны. В это же время, как по команде, кругом поднялась стрельба. Я выскочил из палатки и увидел необыкновенное зрелище: весь лес был освещён ракетами разного цвета. Кругом стрельба, шум, крик. И хотя командир полка настаивал на прекращении стрельбы, чтобы не тратить патрона «на ветер», как он говорил, я сам не удержался и выпустил из пистолета вверх всю обойму. А удержать бойцов и командиров от стрельбы не было возможности. Радости у каждого из нас не было конца. Ну и как же не радоваться, ведь многие из нас за четыре года побывали и под дождём со снегом, когда шинель и та коркой делалась, и по пояс в болоте, преодолевая Лубанскую низменность в Латвии, тело порой до пят водой пропитывалось, а во рту по несколько дней не было ни крошки хлеба. А сколько раз снег сёк лицо, как кнутом, и руки, и ноги, и хребет – всё коченело. Теперь это всё позади. У нас праздник! Да ещё какой, Победа! Казалось тогда, что радостнее дня в жизни не было никогда. Бойцы катаются по земле, друг друга подбрасывают, обнимаются, целуются, и у всех на глазах скупые и тяжёлые, как свинец, мужские слёзы. Так в то время проявлял свои чувства солдат Победы. А потом загудят паровозы, и эшелоны один за другим повезут победителей в родные края с песней: «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех…» Но не все возвращались на Родину на поездах, многие возвращались своим ходом, пешком.
Получили приказ о возвращении на Родину и мы, воины 37-й стрелковой дивизии. И с транспарантами «Встречай нас, Родина-мать, своих сынов-победителей» отправились и мы в путь пешим порядком.
Радостные и приятные встречи с трудящимися городов Болграда, Одессы. И вот Николаев, город крупного судостроения. Наша дивизия с полей сражения пришла в город первой, поэтому встреча с трудящимися города была торжественной, праздничной. Казалось, все жители города вышли на улицы. Все были в праздничных нарядах, с цветами, с плакатами, на которых нанесены приятные слова: «Под солнцем любви всенародной домой вы со славой пришли».
На площади Ленина состоялся митинг. Над колоннами, как мотыльки, летали листовки, сброшенные с самолётов, со словами благодарности нам за Великую Победу, за избавление человечества от фашистской чумы…
Расположились мы в одном из самых больших и благоустроенных к тому времени военных городков гарнизона. Здесь, в Николаеве, помогали мы трудящимся города восстанавливать разрушенное хозяйство, убирать с колхозных полей хлеб. С николаевцами у нас установилась тесная дружба. Город и его трудящиеся стали для нас родными. Многие из офицеров и сержантов здесь поженились и связали свою судьбу с городом навечно. В конце 1945 года дивизия в Николаеве была расформирована, и после увольнения в запас многие воины остались здесь работать.
После расформирования дивизии меня оставили в кадрах армии, и я продолжил служить в частях Одесского военного округа в должности командира отдельной роты особого назначения, так как в войну командовал штрафниками.
В 1946 году я женился в Николаеве. Имею двоих взрослых теперь детей, которые трудятся в Николаеве. Имею внуков.
В 1953 году был уволен из Советской Армии по сокращению штатов и с тех пор более тридцати лет трудился в Николаеве мастером по ремонту бытовой техники. С 1985 года на пенсии. Уволился из армии в звании майора.
В настоящее время много занимаюсь общественной работой. Являюсь заместителем председателя комитета содействия Ленинского райвоенкома г. Николаева, возглавляю Николаевскую группу ветеранов-однополчан 37-й стрелковой дивизии, общественный директор музея боевой славы 37-й СД в школе-интернате №5 г. Николаева.
За производственную работу награждён медалью «За добросовестный труд», пятью знаками победителя соцсоревнования, многими грамотами.
За общественную военно-патриотическую работу награждён дипломом СКВВ и нагрудным знаком, Почётной грамотой Министерства просвещения УССР и грамотами военкомата.
К 40-летию Победы награждён орденом Отечественной войны I степени.
К. К. Башков, 1981 год




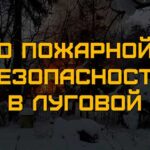

В данных воспоминаниях Башкова К.К., написанных спустя 40 лет после описываемых событий (я говорю о ноябре-декабре 1941 года) очень много ошибок, особенно — в датах событий… И это не удивительно — времени немало прошло. Потихоньку буду делать примечания к этой статье.
Добавил на сайт страничку Башкова К.К. — https://lughistory.ru/voiny-rkka/bashkov-k-k/